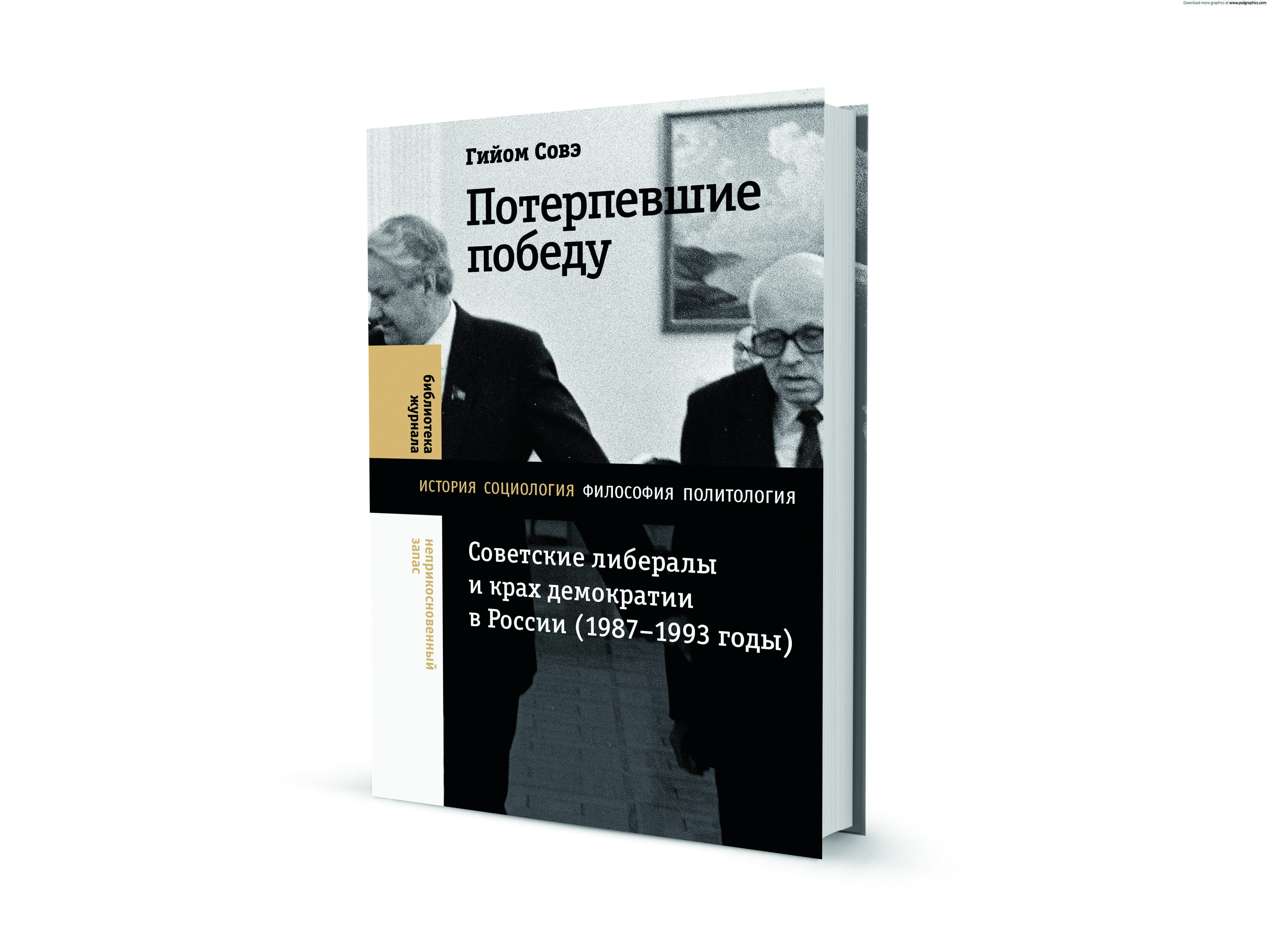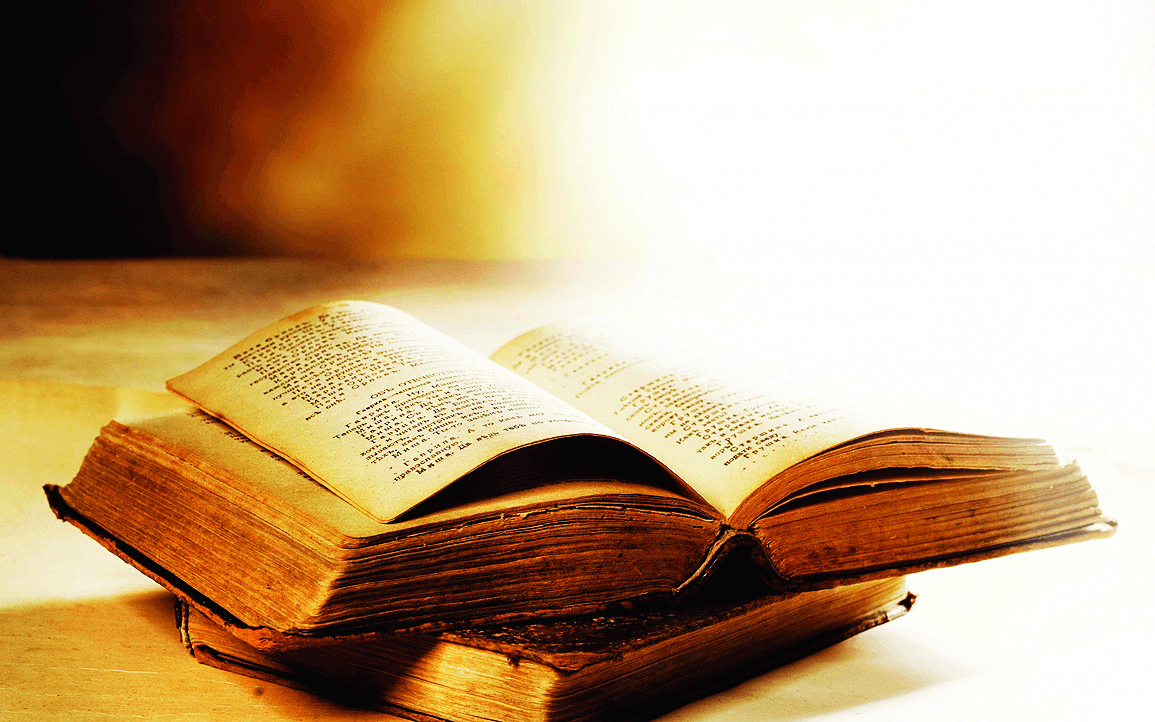История одного века
№127 июль 2025
Выход обобщающих трудов, охватывающих историю разных стран и народов на протяжении целых эпох, всегда событие. Хотя бы потому, что зачастую «большое видится на расстоянье»
Василиса Середкина
Изданный на русском языке трехтомник «Преображение мира. История XIX столетия» известного немецкого ученого Юргена Остерхаммеля описывает события «долгого» XIX века, временные границы которого, по его мнению, лежат примерно между 1770 и 1914 годами. При этом историк освещает прошлое не только Европы, но и всего остального мира и пишет не только о политике, но и о культуре, экономике, социальной сфере. Он следует традиции, заложенной классиками жанра – британским историком Эриком Хобсбаумом и французом Фернаном Броделем. Книга Остерхаммеля интересна прежде всего тем, что противостоит современной моде на узкую специализацию, категорично отправляющей сочинения столь широкого охвата в резервацию «популярной истории», которая якобы «создается дилетантами для дилетантов».
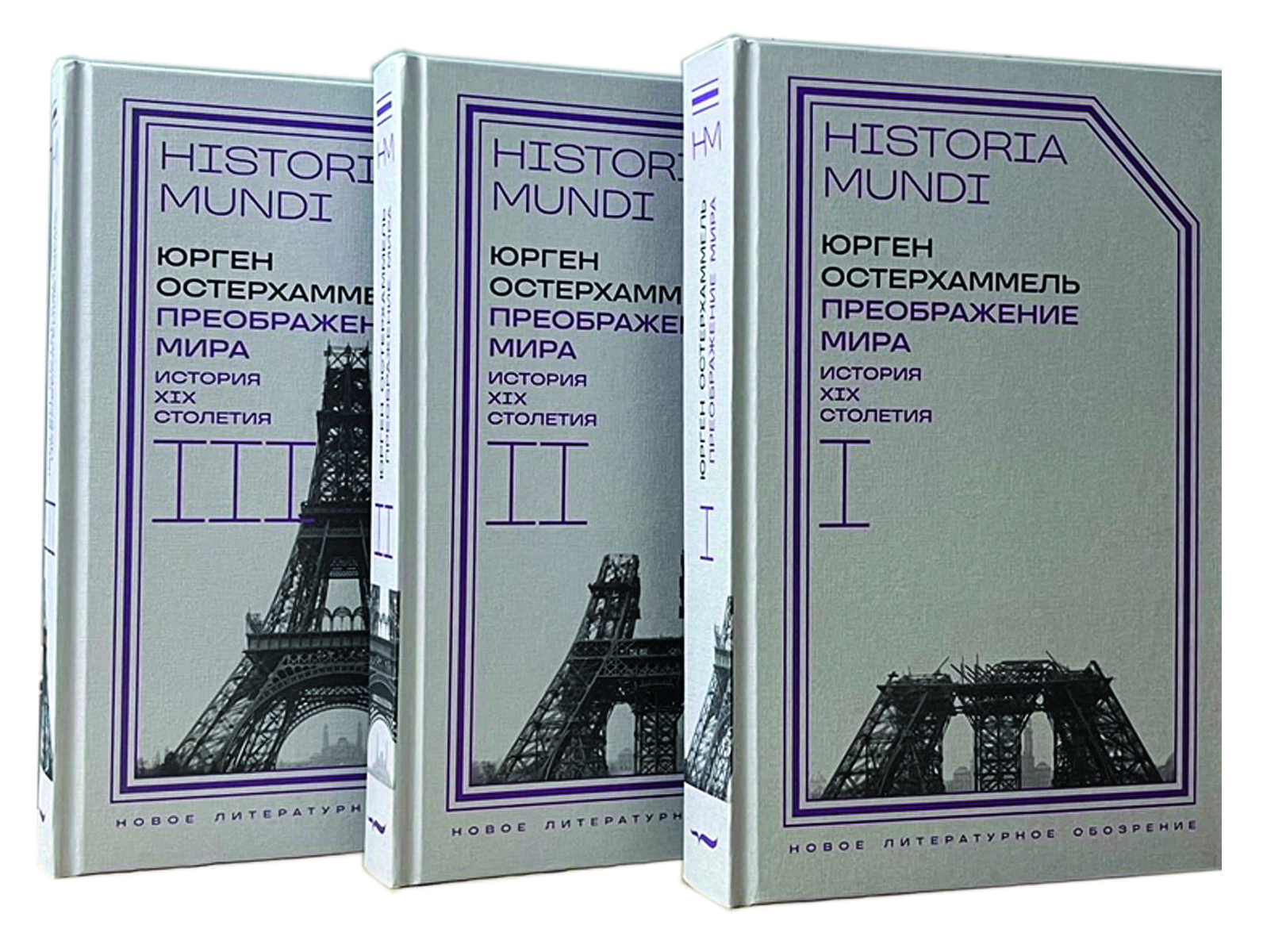
Международная панорама
Между тем Остерхаммель отнюдь не дилетант, а почтенный 73-летний почетный профессор Фрайбургского университета. Размах его работы впечатляет: три тома, почти 2 тыс. страниц, 2,5 тыс. процитированных (и гораздо больше прочитанных) источников на разных языках. Результатом стала широчайшая историческая панорама многих стран и континентов – как сказано в аннотации к русскому изданию, «от Нью-Йорка до Нью-Дели, от латиноамериканских революций до восстания тайпинов, от опасностей и перспектив европейских трансатлантических рынков труда до трудностей, с которыми сталкивались кочевые и племенные народы».
В предисловии, написанном специально для российских читателей, автор говорит об истории создания книги. Она выросла из дискуссий 1990-х годов, посвященных вопросу о том, как сегодня следует писать мировую историю. Вместо «учебника», простого набора фактов и дат, она должна была предстать структурированным рассказом о глобальных процессах и их взаимосвязи. В этом ключе и создано «Преображение мира», где материал сгруппирован не по странам или периодам, а по темам. Поэтому, с точки зрения самого Остерхаммеля, книгу можно читать не целиком, а отдельными частями, интересующими ту или иную целевую аудиторию.
Историк признает, что его труд часто обвиняют в «евроцентричности». Он, однако, терпеливо отвечает, что дело тут не в пристрастиях, а в том, что именно в «долгом» XIX веке приоритет Европы во всех областях был наиболее ощутим и это нельзя скрывать в угоду модным «мультикультурным» теориям. Другим обвинением стало отсутствие в работе общей концепции, объясняющей все события. На это Остерхаммель так же честно отвечает: «Свести характеристику такой крайне многогранной эпохи к "сути", изложенной в нескольких предложениях, невозможно».

Юрген Остерхаммель
Собирая пазл
Чтобы не дать книге с ее многообразием фактов рассыпаться на отдельные кусочки пазла, автор открывает ее обобщающей частью, где описаны как инструменты изучения истории XIX столетия, так и главные сферы этого изучения. Обращаясь к таким разным и довольно неожиданным темам, как, например, опера, всемирные выставки и календари, он показывает, как на протяжении века сближались и унифицировались местные традиции.
В определенный момент Остерхаммель делает акцент не на времени, а на пространстве, а точнее, задается вопросом, как от европейского центра к «периферии» изменялись те или иные области реальности. Эти изменения рассматриваются весьма обстоятельно, с экскурсами в прошлое (автор называет их «последовательным кружением»), с привлечением данных статистики и демографии. Среди рассмотренных им тем – миграция населения, рост городов, роль «фронтира», понимаемого как граница между диким миром и цивилизацией, отношения империй и национальных государств. В отличие от российских историков, по традиции привыкших уделять повышенное внимание революциям, немецкий ученый в своем обзоре ставит эти общественные явления чуть ли не на последнее место, причем говорит о Французской революции конца XVIII века не больше, чем о восстании негров-рабов на Гаити или тайпинов в Китае. При этом он все же помещает в центр так называемые «революции Атлантики» – вроде Американской (1765–1783) и уже упомянутой Французской, считая «периферийные» революционные взрывы (в России, Китае и других странах) их отголоском, проявлением общего стремления к переменам («преображению»), распространившегося из Западной Европы.

Штурм дворца Тюильри 10 августа 1792 года во время Французской революции. Худ. Ж. Берто. 1793 год
От рабства к рабству
Третий том, получивший название «Материальность и культура», вновь собирает отдельные сюжеты в общее повествование, посвященное уже не политической, а социально-культурной истории. Эта часть книги выглядит наиболее спорной: слишком уж противоречит заявленному автором глобальному подходу сравнение блестящих успехов европейской цивилизации XIX века с отсталостью всего, что находилось за ее пределами. Идет ли речь об использовании энергии, развитии индустрии, появлении новых средств транспорта и связи, Остерхаммель демонстрирует приоритет Запада и его роль «цивилизатора» (нередко насильственного) остального мира. При этом он указывает на сходство социальных процессов, происходивших в Западной Европе и остальном мире, избегая, впрочем, непопулярных ныне упоминаний о классах и классовой борьбе.
В последних главах, посвященных науке и культуре, автор столь же уверенно отводит Западу «цивилизаторскую» роль, объясняя культурные достижения других стран (в том числе России) заимствованием ими европейского опыта. Одно из главных, в его восприятии, явлений XIX века – отмену рабства в Америке и на Ближнем Востоке – он также ставит в заслугу европейцам, не акцентируя при этом, что именно в тот период с их «легкой руки» немалая часть населения планеты оказалась в новом, колониальном рабстве. Есть в книге и другие умолчания и пробелы – конечно, неизбежные для столь широкого исследования. Например, когда речь идет о культуре, главное внимание уделяется живописи и музыке, в то время как литература или театр остаются в тени. Но в этой односторонности исследователь признается сам, равно как и в том, что его труд – при всем стремлении к объективности – проникнут личным взглядом на события прошлого.
Василиса Середкина