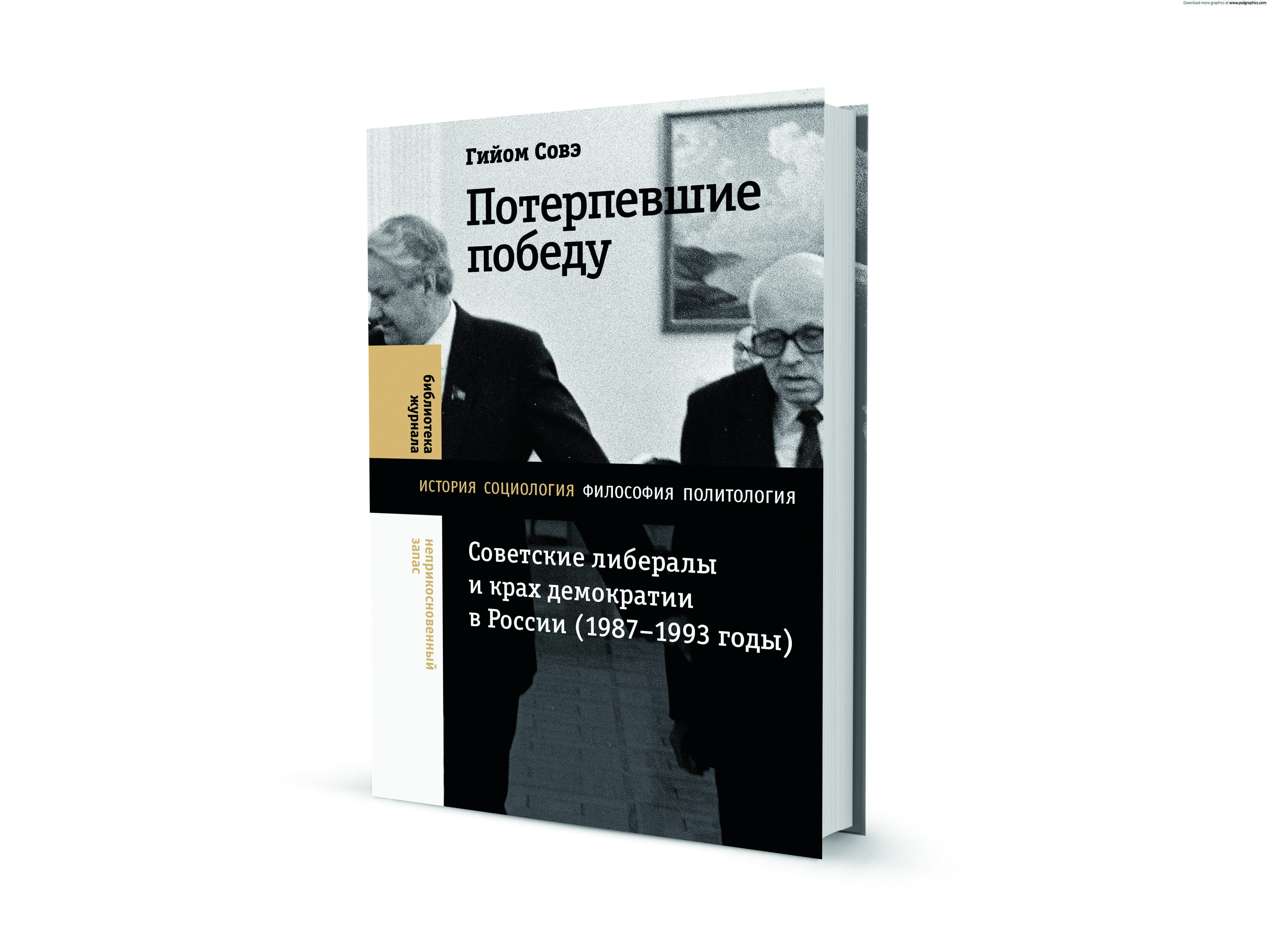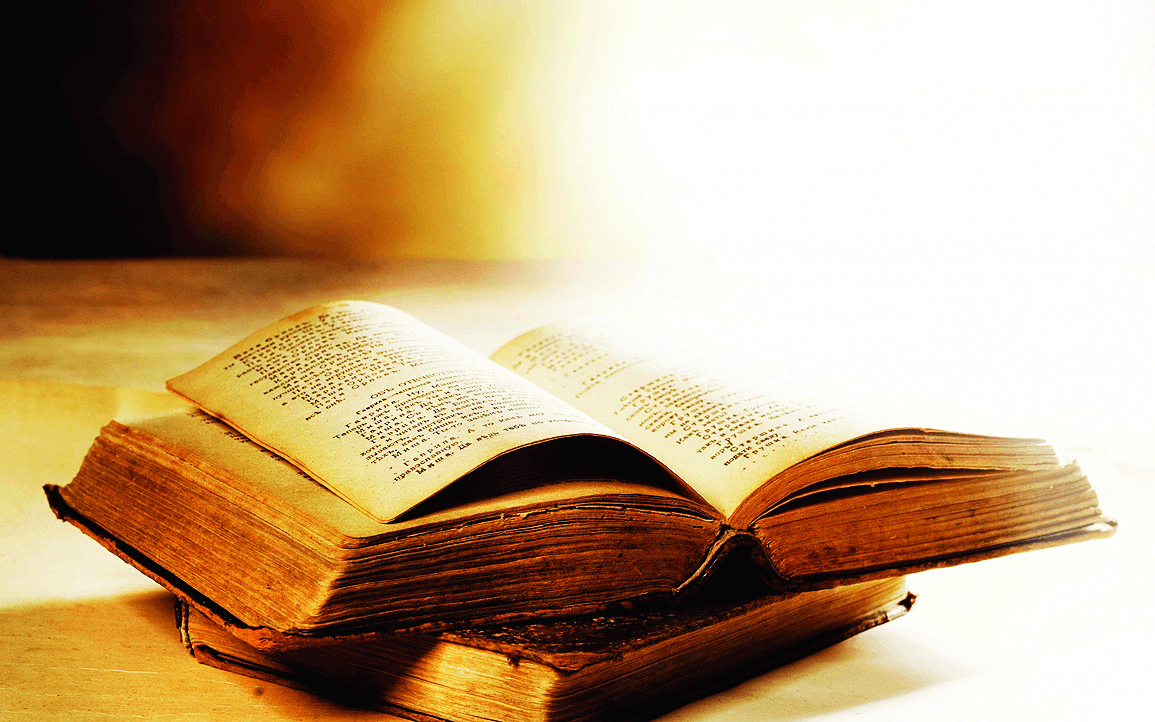«Мамонтова работа»
№127 июль 2025
О том, чем книга Юргена Остерхаммеля о «долгом» XIX веке интересна любителям истории, «Историку» рассказал один из ее переводчиков, кандидат исторических наук Денис Сдвижков
Беседовала Василиса Середкина
«Это был действительно масштабный труд, то, что немцы называют Mammutwerk – "мамонтова работа": мы с коллегами Анной Ананьевой и Кириллом Левинсоном работали над переводом целых 12 лет», – говорит Денис Сдвижков. Конечно, сейчас книги читают по-другому, по диагонали, и столь объемный труд вряд ли найдет много читателей, признает он, но при этом подчеркивает: «На фоне нынешнего мелкотемья нужны "авантюристы", создающие обобщающие работы».

Денис Сдвижков
«Обратная оптика»
– Скажите, а решаема ли вообще задача описать целый век в истории человечества? Очевидно, что многие вещи приходится упрощать, опускать, жертвовать деталями…
– Безусловно, детали – жертва, которую любому историку приходится приносить, если его подход связан с таким перспективным взглядом. Можно привести в пример полотна импрессионистов: подойдешь ближе – увидишь только мазки, а чтобы увидеть всю картину, надо отступить подальше. Эта «обратная оптика» работает и в истории.
– Что эта книга дает корпорации историков и – шире – нашему обществу?
– Помимо фактов всегда нужны объяснительные модели. Многие историки добросовестно роются в архивах, собирают кучу ценной информации, но не дают ей интерпретации. Однако мы знаем, что факты мертвы сами по себе, когда их ничего не объединяет и не объясняет. Чтобы они заговорили, надо их связать, дать им какой-то контекст. А чтобы его получить, нужно или освещать факты шире в рамках национальной истории, или предпринимать сравнения в масштабах наднациональной или даже глобальной истории. Последнее и сделал Остерхаммель, который, кстати, уже после этой книги выпустил вместе с другими учеными еще более объемную «Всемирную историю» в шести томах. Понятно, что один человек не может охватить такой огромный материал, и даже в его трехтомнике мы видим немало пропусков, но это свойство человеческого знания в целом. Немецкий социолог Макс Вебер говорил, что каждый фрагмент времени лишен смысла сам по себе – смыслом и значением его наделяют люди.
– Тогда поясните, почему Остерхаммель решил наделить смыслом именно выбранный им хронологический отрезок?
– Он исходит из установившейся традиции – видеть в разных феноменах то, что проявлялось в определенное время, с опорой на представление современников об эпохе, в которой они жили. Эти сравнительно недавние представления о своей эпохе историки используют при формировании темпоральных моделей вроде «долгого» XIX века или «короткого» ХХ века. Причем Остерхаммель как раз подчеркивает, что границы веков не определены четко, в разных регионах эти исторические периоды начинаются и завершаются в разное время, тем более что везде были свои календари. XIX век он воспринимает прежде всего как смысловой центр описанных им событий, которые начались еще в предыдущем столетии, в 1770-х годах, с Американской революции, и закончились за его хронологическими пределами – в 1920-х.
Культура на экспорт
– Какое место в книге занимает Россия?
– Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что Россия у Остерхаммеля занимает очень уж значимое место. Для него она хоть и огромная империя, но расположенная где-то на периферии, в Северной Евразии, то есть в стороне от главных процессов, и отчасти он извиняется за такой недостаток внимания в предисловии к русскому изданию. Интересно, что для него русский XIX век – это в первую очередь культура, причем Остерхаммель пишет, что без Пушкина и Гоголя, Чехова и Бунина, Глинки и Чайковского понять этот век невозможно. Конечно, такое представление не ново: культура – наш главный экспортный товар. Но во многом у Остерхаммеля свой взгляд: например, он видит представителей радикальной интеллигенции как бы продолжателями петровской модернизации страны, в результате ставшими могильщиками империи. Причем мыслит это, что тоже любопытно, как глобальное явление, сопоставляя роль образованных элит в революциях в Российской, Китайской, Персидской и Османской империях.
– Как вы объясните такое внимание к русской культуре – просто дань моде или все-таки тут есть некая аналитическая составляющая?
– Мне кажется, здесь нет аналитики – это общекультурный багаж, который оставил XIX век и которым и сегодня определяется отношение к русской истории не только европейских и американских интеллектуалов, но во многом и наше. Говоря о 1812 годе, мы подразумеваем «Войну и мир», о пореформенной эпохе – роман «Отцы и дети» и так далее. Это неизбежно, поскольку русская культура оказала громадное влияние на мировую – и прежде всего именно в XIX веке, что сказывается до сих пор.
– «Долгий» XIX век, как известно, завершился Первой мировой войной. Есть ли в книге ответ на вопрос, как стала возможной столь масштабная бойня в таком, казалось бы, гуманистическом и прогрессивном мире?
– Если коротко – такого ответа нет, да Остерхаммель и не считает, что должен его давать. Охватывая взглядом весь мир на протяжении столетия, он сознательно избегает оценок, как Пимен в «Борисе Годунове»: «Добру и злу внимая равнодушно…» То есть «прогресс» и «гуманизация» – термины не его лексикона, в отличие от «повышения эффективности», а ведь это повышение проявлялось и в военной сфере. Культ эффективности напрямую связан с культом силы, и мы видим, что к концу XIX века слово имели лишь вооруженные до зубов великие державы, а более слабые фактически сбрасывались со счетов. Гуманизация и прогресс шли параллельно с колониальными захватами, с жестким соревнованием по разделу мира.
Все это вызывало в европейской и, в частности, русской культуре того времени повышенную нервозность, алармизм, духовный кризис. Впрочем, в глубинном плане любое преображение, любая трансформация – это в то же время кризис, то есть не только возможности, но и угрозы. Война, как пишет Остерхаммель, раскрыла то, что потенциально было заложено в довоенный период, поэтому он и считает ее частью, а не границей «долгого» XIX века. И заканчивает книгу тем, что этот век заложил традиции либерализма, пацифизма, социальной справедливости, которые сохранились в последующую эпоху, во многом определив ее облик. При этом, отмечает он, тот же самый XIX век проторил дорогу к катастрофам: войны и революции ХХ столетия – именно оттуда.

Расчет германского крепостного и осадного орудия на боевой позиции. 1916 год
Культ эффективности напрямую связан с культом силы, поэтому к концу XIX века слово имели лишь вооруженные до зубов великие державы, а более слабые фактически сбрасывались со счетов
Василиса Середкина