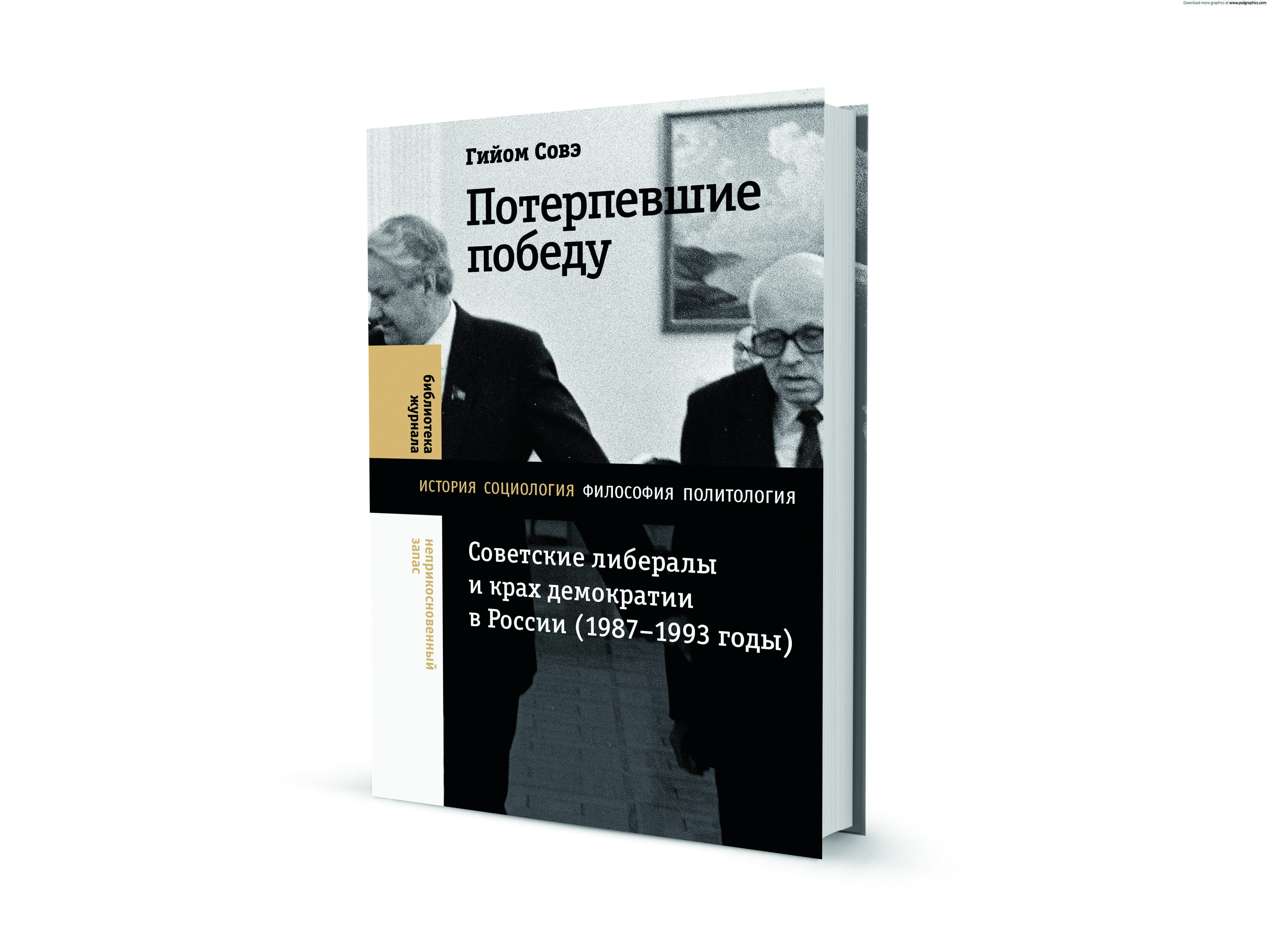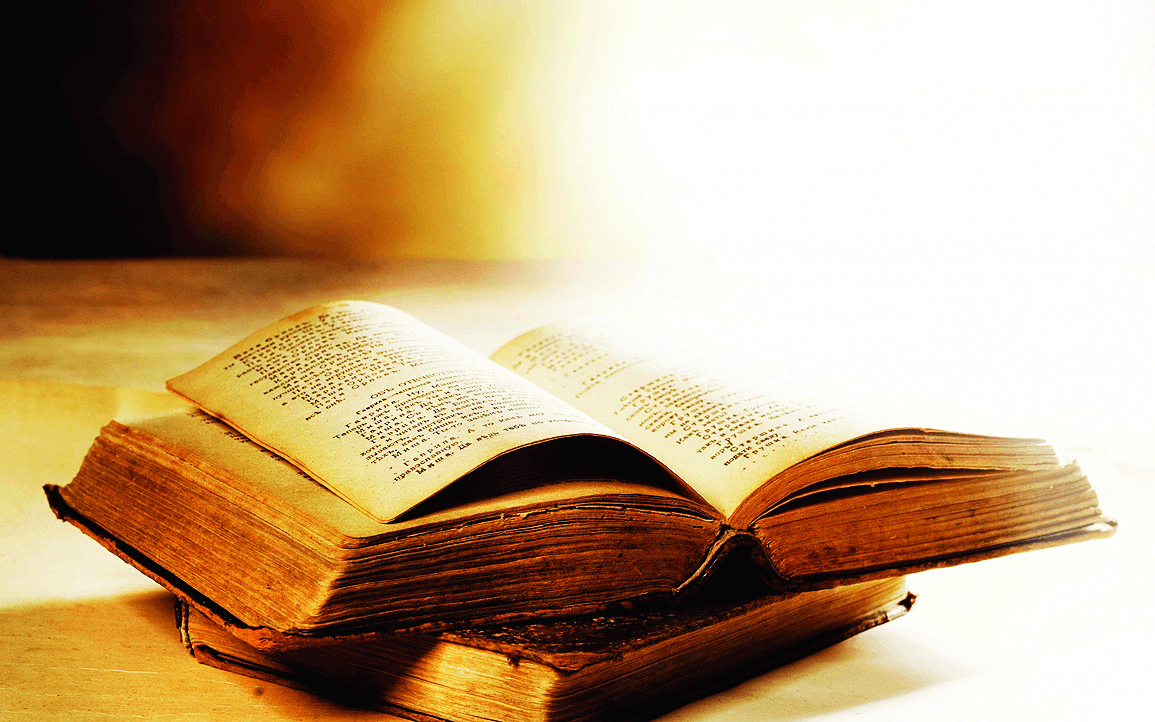За взятие Варшавы
№127 июль 2025
Штурм столицы Речи Посполитой русскими войсками осенью 1794 года породил немало легенд, сохранившихся до наших дней. Стоит ли им доверять?
Иван Фадеев
Сам Александр Суворов называл штурм Варшавы «вторым Измаилом». Бои шли тяжелые: недаром за эту победу императрица произвела его в фельдмаршалы.

Вид Варшавы от предместья Прага. Худ. Б. Беллотто. 1770 год
Конец Польши
В польском и западном общественном сознании это событие, обозначившее окончательное поражение восстания под руководством Тадеуша Костюшко, с тех пор и до наших дней устойчиво ассоциируется исключительно с «резней» в варшавском предместье Прага на восточном берегу Вислы 24 октября (4 ноября) 1794 года.
Среди откликов на штурм Праги обычно упоминают фразу Наполеона, который в письме Директории осенью 1799-го назвал Суворова «варваром, залитым кровью поляков». 18 мая 2025 года государственное Польское радио в передаче, посвященной 225-летию со дня смерти Суворова, признало полководца «необычайно талантливым» и одновременно возложило на него ответственность за «резню Праги» и «убийство мирного населения». По мнению поляков, «главными виновниками трагедии были казаки, которые зверски убивали не только мужчин, но также женщин и детей. Согласно различным оценкам, тогда погибло от 13 до 20 тыс. человек». И потому, как заявил известный польский историк Анджей Захорский еще в 1989 году, во времена ПНР, Суворову «никогда не снискать симпатию в сердцах польского народа».
В самом деле, полякам сложно полюбить знаменитого русского полководца. Помимо взятия Варшавы за ним числится немало других побед над польскими войсками. На протяжении 28 лет, с момента первого удачного боевого столкновения с мятежниками Барской конфедерации в 1771-м и вплоть до унижения польских легионеров Наполеона во время Итальянского похода 1799 года, Суворов неизменно одерживал над поляками сокрушительные виктории. Русский военный историк генерал Платон Гейсман, автор уникального и по сей день сочинения «"Конец Польши" и Суворов» (1900), даже утомился эти победы перечислять и, насчитав у полководца «три польские войны», Итальянский поход описать позабыл.
«Варшавская заутреня»
Все польские и западные легенды о событиях 1794 года сфокусированы исключительно на крови поляков. Между тем начало восстания Костюшко сопровождалось массовыми жестокостями со стороны мятежников и большой кровью русских солдат и офицеров. Военный историк Николай Орлов, автор книги «Штурм Праги Суворовым в 1794 году» (1894), так комментировал трагические обстоятельства восстания в Варшаве, начавшегося в 4 часа утра 6 (17) апреля 1794 года: «Восстание вспыхнуло в Чистый четверг, и повстанцы этим тоже воспользовались. 3-й батальон Киевского полка (человек 500) находился в это время в церкви для приобщения св. Таин и, конечно, был безоружен. Повстанцы ворвались в храм и перерезали большую часть говевших».
«Варшавская заутреня» по вполне понятным причинам ожесточила сердца русских воинов. Денис Давыдов даже написал о том, что Суворов не привлекал уцелевших в апрельской трагедии к занятию Варшавы: «Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы… в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение».
Здесь стоит заметить, что собственно в Варшаве осенью 1794 года никаких эксцессов со стороны суворовских воинов вообще зафиксировано не было – все жестокости уместились в несколько утренних часов сражения 24 октября (4 ноября) на другом берегу Вислы. Орлов подчеркивал, что в тот день «войска сражались не только с особенной энергией, но и с крайним ожесточением. Ожесточение это возросло еще более, когда они с разных сторон ворвались в Прагу и начался уличный бой со всеми его ужасами, – ведь здесь были и те полки, которые находились в Варшаве во время резни в Великий четверг 6-го апреля».
В том, что такое месть за «варшавскую заутреню», в битве под Мацеёвицами 29 сентября (10 октября) лично убедился вождь повстанцев Костюшко, которого сначала ранил, а потом взял в плен уроженец Курской губернии Федор Лысенко. Еще в апреле 1794-го, во время массового убийства русских солдат мятежниками, Лысенко с «неопасной раной» выбрался из-под груды мертвых тел и чудом сумел доползти до своих. После этого он был беспощаден к полякам: под Мацеёвицами «при виде, что между казаками стоит польский офицер, ударил его в голову палашом, отчего в ту же минуту Костюшко замертво упал». Повстанческий лидер остался жив, но был, по словам командира казаков Андриана Денисова, «столь бледен, что более на мертвеца походил: голова была вся в крови, ноги без сапог, одет в кафтан, со многими вязаными пуговками, в атласном жилете и панталонах».

Варшавская заутреня 17 апреля 1794 года. Худ. Ю. Коссак. 1894 год
«Варвар с востока»
Пленение Костюшко негативным образом сказалось на и без того небольших военных шансах Польского восстания 1794 года. Само это восстание стало важнейшей причиной для третьего раздела Речи Посполитой в следующем, 1795 году, по итогам которого государство на долгие 123 года исчезло с политической карты Европы. Горечь от рокового поражения польское общество постаралось частично компенсировать распространением в Европе известий о невиданных жестокостях поработителей страны, среди которых безусловное первенство принадлежало Суворову, удостоенному за взятие Варшавы фельдмаршальского жезла. Такая тактика была отработана еще со времен Ливонской войны, когда поляки в летучих листках на латыни изображали Ивана Грозного исключительно свирепым «варваром с востока».
Теперь самым ужасным из варваров был объявлен Суворов. Леденящие душу версии штурма Праги полякам помогали распространять немцы и англичане. Британский посол в Варшаве генерал Уильям Невилл Гардинер сообщал премьер-министру Уильяму Питту – младшему, что «нападению на линии обороны Праги сопутствовало ужаснейшее и совершенно ненужное варварство». Эти реляции посла проникли в английские, а потом и во французские газеты. Даже после победы над Наполеоном журналисты продолжали возвращаться к теме Суворова. Так, 26 января 1818 года лондонская «Таймс» обрушилась на давно покойного к тому времени генералиссимуса с чудовищными обвинениями, что в Праге «60 000 поляков были принесены в жертву его мстительности». Эту фантастическую цифру доказать категорически невозможно, и ее не принимали на веру даже самые радикальные польские публицисты.
Прусский провиантский комиссар Фридрих Нуфер по горячим следам событий, в 1795 году, выпустил в Познани брошюру на немецком языке. Он изобразил себя непосредственным очевидцем «резни», уверяя, что в день штурма трижды переплывал Вислу на лодке и своими глазами видел деяния «варваров»: «Вид Праги был ужасен: люди обоего пола, старцы и младенцы у груди матерей лежали убитые в куче; забрызганные кровью и обнаженные тела солдат, поломанные телеги, растерзанные лошади, собаки, коты, даже свиньи. Тут и там еще подрагивали члены умирающих. Весь город Прага лежал в пламени и дыме, и крыши заваливались с треском, которому вторило ужасающее вытье казаков, проклятья рассвирепевшей солдатни…»
Нуфер не стеснялся описывать скупку награбленного, утверждая, что прямо на месте битвы приобретал у суворовских воинов за один злотый золотые и серебряные часы, за два рубля – полную шапку серебряного лома, а за 35 злотых якобы спас от верной смерти 35 еврейских детей. Достоверность подобных свидетельств весьма сомнительна: окажись в Праге во время штурма такой немец с деньгами, его бы без особых церемоний обобрали до нитки. Сделки с часами и серебром, возможно, происходили, когда русская армия уже заняла Варшаву и там воцарился порядок. Что касается еврейских детей, то, вероятно, это вообще выдумка.

Польские повстанцы приветствуют Тадеуша Костюшко. Худ. Я. Матейко. 1888 год
Горечь от поражения поляки постарались компенсировать распространением в Европе известий о невиданных жестокостях «русских варваров», и прежде всего их «предводителя» Суворова
Умолчание военных
Польские очевидцы событий по идее должны были высказаться еще резче. Однако именно подобных свидетельств в источниках до сих пор не могут найти историки, хотя как минимум несколько сотен свидетелей битвы в Праге сумели в тот же день перебраться через Вислу в Варшаву. Не менее примечательно и то, что видные вожди повстанцев Ян Генрик Домбровский, Юзеф Зайончек и Юзеф Выбицкий достаточно сдержанно отозвались в своих мемуарах об «одном из самых трагических событий в польской истории», тем самым невольно разрушая устойчивые мифологические конструкции.
Из этих троих предводителей штурм Праги воочию наблюдал только будущий наместник Царства Польского 42-летний генерал Зайончек, командовавший оборонявшимися повстанцами. В воспоминаниях «История польской революции в 1794 году глазами очевидца» он уверял, что был тяжело ранен, попал в окружение, но смог тем не менее пробиться к своим. Николай Орлов, в свою очередь, оценил его боевые заслуги иначе: «Зайончек, легко раненный пулею в живот, поспешил уехать в Варшаву». Отъезд генерала породил среди поляков неприятные для него подозрения. Оправдываясь, он вскрыл корни катастрофы польского войска, обвиняя короля Станислава Августа и немощь его власти: «Мне приписывали предательство, на которое лишь король со своими приятелями был способен. Ведь на самом деле истинными причинами несчастья, постигшего поляков на Праге, были интриги монарха, слабость гарнизона, отсутствие отваги в армии».
Рассказ о пражской трагедии у него краткий и стереотипный, без каких-либо подробностей. На первом плане тут самокритичная картина его войска, с началом битвы удирающего в беспорядке во все стороны. Впечатления исключительной уникальности «резни» текст Зайончека не содержит, как и лаконичный отзыв не бывшего в Праге Выбицкого, для которого главный итог действий Суворова означал лишь, что «пробил смертный час нашего восстания».
Еще строже высказался будущий организатор польских легионов генерал Домбровский, до сих пор хорошо известный всем полякам: «Мазурка Домбровского» на стихи его друга Выбицкого является государственным гимном Польши. Домбровский сразу был против обороны Варшавы и строительства в Праге оборонительных сооружений, считая, что с русской армией нужно сражаться между реками Вислой и Одрой. Сообщения о действиях Суворова он сперва счел вредными слухами: «В лагере начало проявляться несчастье Праги и Варшавы. Прибывали генералы, офицеры и солдаты, которые оттуда удрали, они заразили весь наш корпус опасениями и страхом, рассказали тысячу сказок и историй о жестокостях москалей и т. п. Сначала таких людей арестовывали… но в конце концов их столько понаехало, что арестованных стало больше, чем тех, кто мог бы их стеречь».
Домбровский изо всех сил пытался бороться с этой «заразой» и послал своих офицеров в другие повстанческие корпуса с целью выведать, насколько правдивы были эти «сказки». Итак, никто из видных соратников Костюшко, а затем и польских сподвижников Наполеона никаких доказательств версии об исключительной для польской истории трагедии в Праге не приводит.

Генерал Юзеф Зайончек. Неизв. худ. Середина XIX века
Бой был коротким, а потом…
Версия о невероятной жестокости штурма Праги Суворовым и является уже 230 лет главной мифологической конструкцией в оценке этих драматических событий. Видные польские военачальники, современники произошедшего в Праге, прошли помимо восстания Костюшко немало испытаний большими войнами, в том числе Наполеоновскими, и военными конфликтами поменьше. Они на собственном опыте знали, что войны XVIII и начала XIX столетия – почти всегда ожесточенные, с огромными потерями. Жертвы среди мирного населения, попавшего в водоворот битвы, были трагическим, но обычным следствием тогдашней манеры вести военные действия.
При этом версии о том, что в Праге погибли исключительно гражданские лица, совершенно фантастичны, как и рассказы, что Суворов якобы лично поощрял своих солдат к грабежам и бесчинствам. Полководец прямо приказал накануне взятия Варшавы: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать». Но реальность битвы оказалась иной. Часть мирного населения, перед приходом русских войск усердно рывшая окопы, предпочла сопротивляться Суворову, эту картину описал Николай Орлов: «На беду спрятавшиеся в домах жители, не исключая женщин, стали оттуда стрелять, бросать каменьями и всем тяжелым, что попадалось под руку. Это еще усилило ярость солдат; бойня дошла до апогея; врывались в дома, били всех кого попало».
Мифы о действиях Суворова при взятии Варшавы частично опираются на давнюю отечественную традицию не касаться его подробностей. Еще Сергей Соловьев в «Истории падения Польши» (1863) был предельно краток: «4 ноября на рассвете русские начали атаку польских укреплений, особенно тех, которые находились на правом берегу Вислы. В короткое время все они были взяты, людей не жалели с обеих сторон; 8000 поляков погибло, вся их артиллерия досталась русским. Прага, состоявшая преимущественно из деревянных домов, представляла одни обгоревшие трубы и кучи пепла». Василий Ключевский в своем «Курсе русской истории» о Праге вообще умолчал, не говоря уже о советских исследователях, описывавших события 1794 года.
При этом тема была подробно изучена русскими историками еще в XIX столетии, все основные источники не то что не засекречены, а давно опубликованы: в частности, в 1940 году в журнале «Красный архив» компактно напечатали суворовские документы о взятии Варшавы. Дискуссионным моментом остается разве что вопрос о числе погибших. В реляции Суворова Петру Румянцеву после битвы указывалось, что «сочтено тел убитых 13 340 человек… и более 3000 потонуло», но великий полководец, как и многие его коллеги, был склонен завышать потери противника. Генерал Орлов сто лет спустя по источникам делал иной вывод: «Потери поляков определяют убитыми и утонувшими в 9–10 тысяч» при 300–450 убитых с русской стороны. Биограф Суворова Александр Петрушевский еще в 1884 году задавался резонным вопросом по части польских потерь: «Все это весьма гадательно и отчасти произвольно, ибо какие, например, данные были для определения числа утонувших?»
Более чем сомнительны по части правдивости и жуткие истории о суворовском штурме. Приводя их, Орлов логично заметил: «В мемуарах встречается описание неистовств, которым предавались русские в Праге… Все эти рассказы слишком стереотипны, чтобы им вполне верить, – они повторяются чуть не при каждом описании штурмов разных крепостей. Обыкновенно рядом приводятся и рассказы об актах великодушия победителя. Так было и здесь».
Возникновение в польском общественном сознании мифа о злодеяниях войск Суворова было вполне закономерным. Знаменитый полководец штурмовал польскую столицу неожиданно для повстанцев и всего за несколько утренних часов одержал победу в коротком сражении при Праге, после чего Варшава покорилась без боя. Горечь непоправимой обиды от гибели Речи Посполитой поляки пытались заглушить легендами о невиданной жестокости «варваров с востока».

Штурм Праги в 1794 году. Худ. А.О. Орловский. 1797 год
«В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать»

Солдатская медаль «За взятие Праги». 1794 год

Вступление Александра Суворова в Варшаву. Худ. К. Буддеус. 1799 год
Что почитать?
Богданов А.П. Суворов. Победитель Европы. М., 2013
Орлов Н.А. Штурм Праги Суворовым в 1794 году. М., 2016
Иван Фадеев