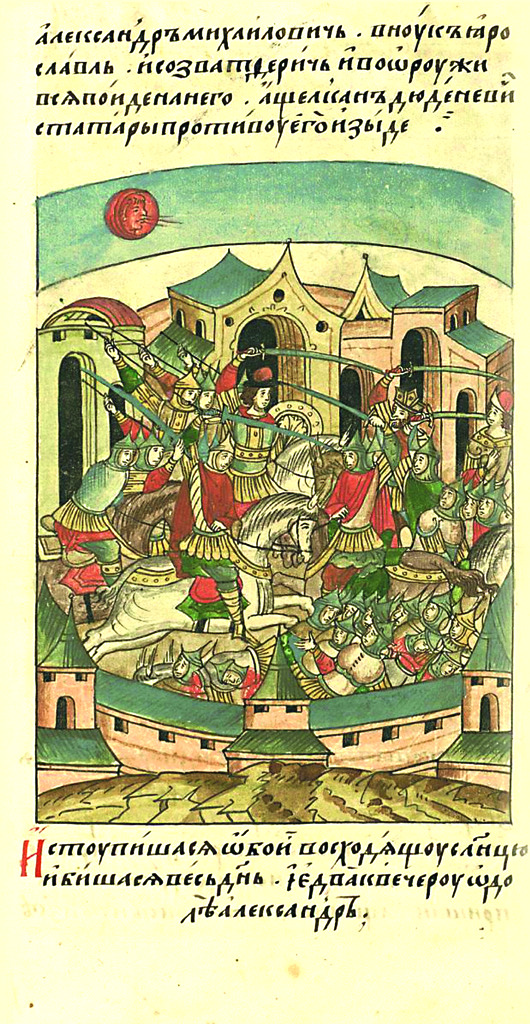«Благородный боец свободы»
№31 июль 2017
В 1917 году в числе многих горячих поклонников Александра Керенского оказались братья Владимир и Василий Немировичи-Данченко.

Выступление Керенского во время его визита на Черноморский флот. Севастополь, 1917 год
Для выражения своих восторженных чувств оба – и известный режиссер, и не менее известный в то время писатель – выбрали газету «Русское слово». С практической точки зрения это был грамотный ход: после Февральской революции газета стала одним из самых популярных московских изданий, ее тираж превышал миллион экземпляров. Таким образом, восторги братьев Немировичей-Данченко в адрес Керенского дошли до самой широкой аудитории.
3 (16) мая 1917 года было опубликовано открытое письмо в поддержку Керенского, направленное от лица основателей Московского Художественного театра Владимира Немировича-Данченко (1858–1943) и Константина Станиславского (1863–1938), а также «всего артистического персонала, рабочих, служащих и администрации» театра. А в конце того же месяца, 30 мая (12 июня), увидела свет заметка писателя Василия Немировича-Данченко (1847–1936), также посвященная будущему премьер-министру России. Заметка вышла под вполне нейтральным заголовком «Керенский (Профиль)». Впрочем, за внешней нейтральностью заголовка скрывалось не менее яростное, чем в открытом письме, любование тогдашним кумиром.
Открытое письмо Московского Художественного театра
Речь, произнесенная вами перед делегатами фронта 29-го апреля, потрясает душу всего коллектива Московского Художественного театра. Мы не можем найти слов, выражающих глубочайшее волнение, охватившее нас при чтении вашей речи. Она поднимает из самых глубин души все, что есть в ней наиболее благородного, наиболее человечного, наиболее гражданского, – слезы умиления и скорби, восторг великой радости и преклонение перед силой правды вашего вдохновенного сердца и вашего проникновенного разума.
Когда вы говорите о ваших товарищах – членах Временного правительства, нет достаточно ярких слов благодарности за то, что вы своим властным голосом внушаете гражданам России оценить по достоинству этих страстотерпцев, этих чистых людей, составляющих гордость России, самоотверженно отдающих свои жизни до последней капли истекающих сил на благо родины, на завоевания революции, на счастье демократии.
Когда крик вашей наболевшей, скорбной души призывает взбушевавшиеся страсти к высшей духовной дисциплине, к той прекрасной свободе, которая вместе с даром широких прав предъявляет и требования тяжелой ответственности, тогда в вашем лице перед нами воплощается идеал свободного гражданина, какого душа человечества лелеет на протяжении веков, а поэты и художники мира передают из поколения в поколение. Тогда мы переживаем то великое счастье, в котором сливаются воедино гражданин и художник.
И когда вы с тоской восклицаете: «Мне жаль, что я не умер два месяца назад», нам хочется послать вам не только наши слезы, наше умиление, наш привет, но и нашу горячую веру в то, что ваш благородный, самоотверженный пафос не потонет в вихре гибельной смуты, что силы правящих и мудрость русского гения победят гражданскую разруху, что чудесные мечты обратятся в действительность и венцом вашей жизни будет прекрасное, гордое величие России.
3 (16) мая 1917 года
Керенский (Профиль)
Керенский не только сам горит – он зажигает все кругом священным огнем своего восторга. Слушая его, чувствуешь, что все ваши нервы потянулись к нему и связались с его нервами в один узел. Вам кажется, что это говорите вы сами, что в зале, в театре, на площади нет Керенского, а это вы перед толпой, властитель ее мыслей и чувств. У нее и у вас одно сердце, и оно сейчас широко, как мир, и, как он, прекрасно. Сказал и ушел Керенский. Спросите себя: сколько времени он говорил? Час или три минуты? По совести, вы ответить не в силах. Потому что время и пространство исчезли. Их не было. Они вернулись только сейчас.
Он красноречив? Нет. Часто его фразы не подают руки одна другой через беспорядочные и неожиданные паузы. Захватывающий его порыв заставляет перескакивать от одной идеи к другой, которые ярким калейдоскопом, со страшной быстротой вращаются в его воображении. Иногда ему некогда схватить эти вспышки магния. И он сам жмурится перед ними. Случаются периоды незаконченные. Он бросил мысль. Ему некогда продолжать ее. Наплывают другие, которых нельзя упустить. Но все равно вы поняли, а за отделкой он не гонится. Бывают повторения, когда вдруг оборвется нить и новый факел еще не вспыхнул во мраке. Полное отсутствие рисунка и задуманности. Но в каждом звуке бьются учащенные, сильные пульсы… Иногда до боли, отражающиеся судорогой на его лице. Какому рисунку, какой схеме поддастся взрывчатое полымя пожара, – а тут ведь перед нами раскрывается вулкан и в кажущейся неправильности, без ритма и последовательности, выбрасывает снопы всесожжигающего огня. Лицо его, такое обыкновенное, серое, часто замученное, утомленное, делается прекрасным и завоевывает, потому что на нем сквозь багровые отсветы убийственных анафем вдруг мелькнет детская улыбка, трогательное выражение всепрощающих глаз.

Василий Иванович Немирович-Данченко
И, уловив это, вы понимаете, что один из вождей революции – он мог и должен был отказаться от самого страшного ее оружия – смертной казни. Он свято верит в человека, поэтому и человек верит ему. Он любит благородство, ищет его и находит в каждой душе, и каждая душа делается чище, открываясь его призыву. Это рукопожатие душ, столь сильное, что в нем задохнутся всякая подозрительность, сомнение, колебания и вы очертя голову пойдете за ним, куда бы он вас ни повел.
Ему несносна всякая преграда между ним и слушателем. Он хочет быть весь перед вами, с головы до ног, чтобы его от аудитории отделял только воздух, сплошь пропитанный его и вашими обоюдными излучениями невидимых, но могущественных токов. Поэтому он знать не хочет кафедры, трибуны, стола. Он выйдет из-за кафедры, вскочит на стол, и, когда оттуда протянет к вам руки, – нервный, гибкий, пламенный, весь в трепете охватившего его молитвенного восторга, – вам кажется, что он касается вас, берет этими руками и неудержимо влечет к себе.
Вы спросите: это талант? Нет, больше таланта! Темперамент? Нет, выше темперамента. Это, повторяю, неукротимая и ненасытная вера в вечную и всемогущую правду свободы. Безумие мученического преклонения перед ее священными обетованиями. Порыв такого стремительного центробежного чувства, который равен только молнии, если бы у молнии были мысль и сознание, куда надо ударить и что поразить. Такой экстаз возносится порою к царству смерти, и только она одна может поставить к нему красную точку.
Вы идете за ним, потому что ни на минуту не усомнитесь: если он зовет вас на подвиг, то и сам будет впереди, принимая на свою впалую грудь, узкие и слабые плечи все удары недобитого чудовища злобной стари. Послушайте, когда он говорит о врагах свободы, вытягивая вверх хилую руку. Вам чудятся в ней снопы таких молний, от которых невольно жмуришься. А его проклятия трусам и малодушным? Они выжигают в тайниках души зародыши подлости и предательства. Иногда, как последний удар, он заносит над вами: «Все слова сказаны, наступило время великой кары», – и вы понимаете, что он поднимет любую палицу, как бы она тяжела ни была, чтобы разбить железный череп реакции.
На единоборство со стоглавой, ядовитой гадиной он выходит за прикованный к утесу порабощенный народ. За этого сермяжного Прометея он померялся бы с Зевсовым орлом, но, победив, не растерзал бы его, а тоже отдал свободе. «Живи!»
И в этом его великая слабость.
Будь он беспощаден, я бы его называл щитом раскрепощенной России.
Кто-то в его облике подсмотрел черты Наполеона.
Какое оскорбление самоотверженному трибуну свободы! Самодовольный корсиканец, воспользовавшийся ею как цоколем для своего личного величия, этот коренастый и холодный бухгалтер переворота, подсчитавший его в свою пользу, и Керенский! Наполеон раз вышел на Аркольский мост. Это было экзаменом будущему императору. Он сдал его блестяще, чтобы потом уже не повторять таких опытов. Керенский всю свою политическую жизнь стоит на Аркольском мосту, и, если бы такой Наполеон попался ему в руки, он, наверное, запер бы гениального хищника в застенок Петропавловской крепости…

Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко (Фото: РИА Новости)
Благородному бойцу свободы не грезятся короны и горностаевые мантии. Его широкой душе тесно в этих пышностях народной муки. Он отдает себя всего, требуя взамен такого же самоотверженного подъема для обездоленного отечества. Он не щадит себя. Изумляешься, где он, тщедушный, измученный, ломкий физически, как тростник, берет неисчерпаемую силу для работы, которой не выдержал бы любой атлет!..
Да, Керенские умирают за свободу, но не взнуздывают ее под свое седло… Они – ее знаменосцы, а не палачи.
Трибун, а не кондотьер.
И да будет стыдно тем, которые в его облике подсмотрели черты Наполеона.
Вас. Немирович-Данченко
30 мая (12 июня) 1917 года
Подготовила Варвара Рудакова
Варвара Рудакова