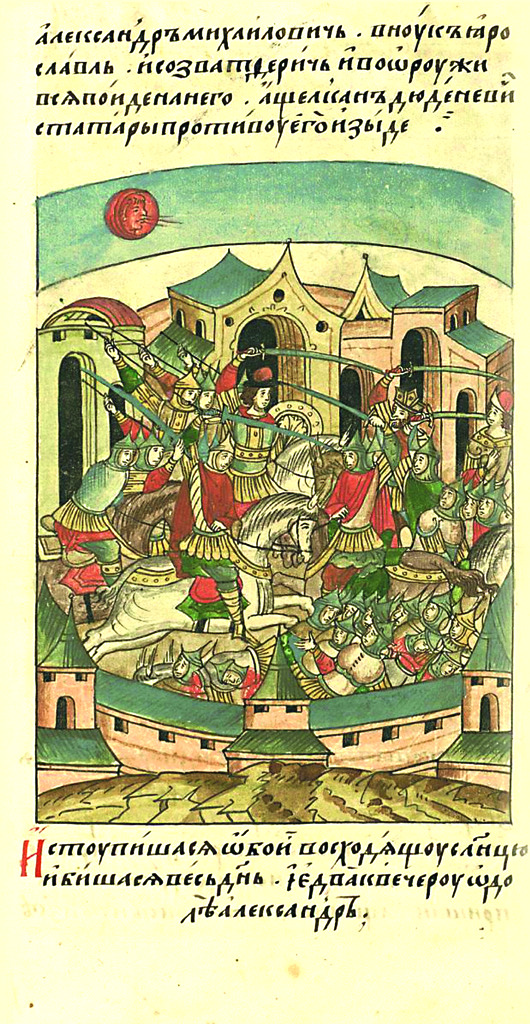Священная война
№31 июль 2017
Мог ли Наполеон выиграть роковую для себя кампанию в России, если бы пообещал свободу русским крепостным? Этот вопрос активно обсуждался современниками Отечественной войны 1812 года, а позднее – ее исследователями. Однако не менее важен вопрос: приняли бы русские крестьяне свободу из рук такого врага?

Схватка русского крестьянина с французскими солдатами. Худ. И.Ф. Тупылев. 1813–1814 (Фото предоставлено М. Золотаревым)
Судя по многочисленным источникам, в изобилии сохранившимся от той в общем-то не слишком удаленной от нас эпохи, накануне войны обращение императора французов к русским крестьянам с вестью об освобождении рассматривалось как вполне реальная возможность по обе стороны будущего фронта. Этот шаг охотно обсуждали в окружении Бонапарта, и о нем не без тревоги говорили дворяне в России. Например, генерал Николай Раевский писал супруге: «Я боюсь не врага, но прокламаций и вольности, которую Наполеон может обещать крестьянам». Впрочем, как мы знаем, французский император на такой шаг не пошел, чем и обеспечил плодородную почву для непрекращающихся спекуляций в жанре альтернативной истории.
«Безмолвствующее большинство»
Любопытно, что во всех рассуждениях на эту тему, звучавших как до войны 1812 года, так и после нее, совершенно не принималась и не принимается во внимание точка зрения самих крестьян. Почему-то представляется очевидным, что свободу из рук Наполеона они приняли бы с радостью, если бы только он решился ее «даровать». Однако прежде чем рассматривать различного рода альтернативные сценарии, хорошо было бы поинтересоваться сначала мнением главной заинтересованной стороны обо всем тогда происходившем.
Насколько осуществима подобная задача? Несмотря на обилие оставшихся от той эпохи письменных источников, все они вышли из-под пера людей грамотных, в основном дворян и мещан, а следовательно, эти документы отражают представления достаточно узкого слоя общества, ибо более 85% населения России начала XIX века грамоты не ведало. Как же тогда узнать, что думало то «безмолвствующее большинство», которое само письменных текстов не производило, но чьими усилиями собственно и была приведена в действие прославленная Львом Толстым «дубина народной войны»?
Бесценным источником для историка здесь является фольклор – тексты устной литературы, создававшиеся народом и отражавшие его мировосприятие. По счастью, их письменная фиксация была поставлена на регулярную основу российскими этнографами именно в первой половине XIX века, когда еще живы были очевидцы наполеоновского нашествия. Соответственно, в нашем распоряжении имеются многочисленные записи фольклорных текстов о войне 1812 года, полученных от ее современников. Обратившись к произведениям устного народного творчества, мы и попытаемся понять, как сами крестьяне воспринимали приход на их землю Великой армии.Наполеон против Ильи МуромцаЗнакомясь с такими текстами, быстро обнаруживаешь, что война 1812 года, как, впрочем, и предшествовавшие ей события русской истории, отложились в памяти народа весьма специфическим образом – без сколько-нибудь жесткой привязки к исторической конкретике. Безымянные авторы фольклорных произведений описывали наполеоновское нашествие в тех же самых образах и при помощи тех же самых топосов, которые их предшественники использовали для изображения неприятельских вторжений далекого прошлого.
Так, в исторической песне о Бородинском сражении при рассказе о перестрелке между русскими и французами возникает образ покатившихся с плеч голов, который был вполне органичен при описании средневековых сражений вроде Мамаева побоища, но в батальной сцене эпохи огнестрельного оружия выглядит уже довольно странно.
Как ударили из пушек, братцы,
Из винтовочек –
Покатилися с могучих плеч
Головушки…
Фольклорные произведения о войне 1812 года изобилуют подобными анахронизмами: Наполеон предваряет вторжение в Россию таким же письмом русскому императору, какое «татарский» Калин-царь пишет былинному князю Киева; реакция Александра I на вражеское нападение описывается в тех же выражениях, что и поведение в аналогичной ситуации Владимира Красно Солнышко, а генерал Матвей Платов повторяет подвиги Ильи Муромца.
Такое смешение примет и сюжетов разных времен вполне объяснимо. С предшествующего неприятельского вторжения на территорию собственно России (в период Смуты) минуло уже два столетия. Русские крестьяне начала XIX века не имели до 1812 года личного опыта соприкосновения с иноземными завоевателями (а часто и с иностранцами вообще), а потому воспринимали французов через тот образ пришедшего на их землю врага, который издревле бытовал в устной традиции. При описании событий этой войны анонимные авторы новых исторических песен использовали привычные и хорошо знакомые топосы устной литературы.
Разбойники, людоеды и нехристи
Существовавший к тому времени в русском фольклоре образ иностранного неприятеля, вобравший в себя за многие столетия черты различных иноземных захватчиков, носил собирательный, синкретичный характер. Он не имел сколько-нибудь ярко выраженной этнической идентичности: в разных вариациях одного и того же произведения врагов могли именовать и «татарами», и «панами», и «литвой», и «турками». Словом, в очень похожих текстах встречаются этнонимы, характеризующие народы, с которыми русские воевали в разные времена.
Вместе с тем фольклорный образ врага обладал рядом вполне определенных, повторявшихся из произведения в произведение характеристик. В первую очередь всегда подчеркивалась грабительская, разбойная сущность захватчиков. Во всех произведениях устной литературы иноземцы, приходящие войной на Русь, неизменно жгут и грабят, убивают и насилуют.
Другая характерная черта фольклорного образа врага – утрированная жестокость, обнажающая нечеловеческую природу завоевателей. Иноземные захватчики сжигают или поедают русских детей, они способны из корысти выпить кровь собственного ребенка или совершить любое другое самое невероятное злодейство.
И наконец, важнейшей характеристикой завоевателей является их непримиримая враждебность к христианству. Если русские богатыри защищают Святую Русь и веру православную, то их неприятели грозят погибелью тому и другому. Иноземные недруги, изображенные в произведениях русского фольклора, используют любую возможность нанести вред христианской церкви.
«Наступила сила французская…»
Образ солдат Великой армии и самого Наполеона в устной литературе о войне 1812 года в полной мере соответствует этому традиционному архетипу захватчика. Безымянные авторы песен не жалели красок, расписывая хищнические повадки французов:
Ахти горе великое,
Печаль-тоска несносная!
Поднималась туча грозная
Что на матушку Москву.
Наступила сила французская.
Она жжет ее и палит,
Весь народ пленит.
Пожгла ряды с товарами,
Домы барские, купечески…
*
Француз Москву разоряет,
С того конца зажигает,
В полон девок забирает…
По отношению к французам, так же как и к завоевателям из фольклорных произведений о незапамятной старине, применялся дегуманизирующий их дискурс. Иноземцам приписывалась столь крайняя жестокость, какая для манеры ведения войн в XIX веке была уже практически немыслима.
Француз силу нашу бьет,
Он и силу нашу бьет,
Во полон живых берет,
Во полон живых берет,
Да с живых кожу дерет.
Однако определяющей архетипической чертой фольклорного образа французов как иноземного врага все же является их антихристианская сущность. В воображаемом диалоге Наполеона с русскими казаками предводитель французов обещает:
«Ах вы русские казаки,
Я в ногах вас истопчу,
Да в камену Москву зайду,
С церквей главы сниму,
В церкви коней заведу!»
Любопытно, что некоторыми своими действиями французские солдаты, возможно сами того не подозревая, подтверждали свое сходство с традиционным для русского фольклора образом захватчика.
«По церквам лошадушек заведу…»
Еще в русских былинах безбожная сущность иноземных нехристей обнажалась в описании столь чудовищного святотатства, как превращение храмов в конюшни. Между тем французские солдаты, пришедшие в Россию, действительно часто становились в церквах на постой, вводя туда и своих лошадей. Они не вкладывали в подобные действия какого-либо антирелигиозного смысла, а просто следовали принятой у них практике: во французской армии палатки не использовались, а потому военнослужащие либо устраивали бивуак под открытым небом, либо занимали имевшиеся в наличии нежилые помещения, обычно церкви или монастыри.
Точно так же французы вели себя и во время военных кампаний на территории западноевропейских стран. Однако в 1812 году эти их действия были восприняты в России как наглядное подтверждение той антихристианской сущности неприятеля, которой он собственно и должен был обладать согласно архетипическим представлениям «безмолвствующего большинства» об иноземном завоевателе. Один из офицеров Великой армии позднее с горечью признавал: «Наполеон… не давал должных указаний войскам о сохранении церквей и охране духовенства и тем навлек ненависть народа на французов. В глазах русских они хуже мусульман, потому что обращают церкви в конюшни».

В Успенском соборе. Худ. В.В. Верещагин. 1887–1895. Из серии картин, посвященных Отечественной войне 1812 года (Фото предоставлено М. Золотаревым)
Очевидно, такое поведение французов произвело на русских крестьян чрезвычайно сильное впечатление, поскольку в устной литературе о войне 1812 года мотив превращения церквей в конюшни звучит практически непрерывно. Так, в одной из народных песен император французов хвастается:
«Ай да я добрых коней своих я расставлю
Все по Божьим вот я по церквам…»
Та же тема поднимается и в воображаемом диалоге Наполеона, угрожающего Михаилу Кутузову:
«А российского генерала
Во ногах его стопчу,
Во ногах его стопчу,
Кременну Москву возьму,
По соборам, по церквам
Лошадушек заведу».
Не менее настойчиво звучит в произведениях устного народного творчества мотив преднамеренного разрушения французами православных церквей: именно эту цель вторжения вражеский предводитель обычно провозглашает основной. В одной из песен он угрожает русским генералам:
«Генералы, генералы,
Я возьму вашу Москву,
Я со ваших со церквей
Кресты-главы пособью!»
Широко распространенная и сохранившаяся в многочисленных вариациях песня о пребывании Наполеона в Москве рассказывает о том, как подобные намерения реализовывались.
Направлял француз ружья светлые,
Он стрелял-палил в матушку Москву.
Оттого Москва загорелася,
Мать сыра земля потрясалася,
Все Божьи церкви развалилися,
Златы маковки покатилися.
На защиту православной веры
То, что в фольклорных текстах врагам неизменно приписываются именно такие антихристианские намерения, показывает, что в основе этого вооруженного конфликта, согласно народным представлениям, лежал религиозный мотив. Как говорилось в «Сказке о Палеоне», французский правитель решил идти войной на Россию, «завидуя благочестивой жизни нашего батюшки-государя Олександры Павловича».
Соответственно, поражение Наполеона представало в коллективном воображаемом Божьей карой за совершенные святотатства.
Наперед идут князья, бояре,
Впереди их идет Александра-царь,
Наголо несет он саблю вострую:
«Ты злодей, шельма, Наполеон-король!
Ты зачем приходил в кременную Москву
И разорил ты наши все церкви Божии?
За то на тебя Господь Бог прогневался,
Да и я, государь, рассердился».
При подобном восприятии конфликта нас уже едва ли удивит широкое применение по отношению к французам эпитета «басурмане» в фольклорных текстах, ранее использовавшегося при описании нехристианских вражеских народов, преимущественно мусульманских.
В представлении «безмолвствующего большинства» вторгшиеся в Россию французы оказались в одном ряду с врагами-иноверцами, которые до того приходили войной на Русь и обобщенный образ которых сложился в исторической памяти народа. Причем если характеристику французов как грабителей, насильников и мародеров еще можно объяснить многочисленными реальными фактами личного опыта столкновения с неприятелем тех русских людей, которым выпала такая доля в 1812 году, то восприятие этого вооруженного конфликта как конфликта религиозного не имело под собой никаких объективных оснований и определялось исключительно архетипическим образом врага, укорененным в глубинах коллективной памяти.
Русские мужики поднялись на войну против «нехристей-басурман», в коих видели смертельную угрозу для своей веры. Выступая перед партизанами, их вожак Герасим Курин говорил: «Вы народа веры русской, вы крестьяне православны, вы старайтесь за веру, умирайте за царя. Для чего мы есть крестьяне, чтоб за веру не страдать. Для чего же мы православны, чтоб царю нам не служить».
Вологодские крестьяне в прошении от 2 сентября 1812 года писали: «Мы все, которые в силах, желаем к самому государю идти в воинскую службу за Отечество православной христианской веры с усердием нашим».
Этот разрыв между объективным содержанием конфликта и его восприятием простым людом просвещенные современники отмечали с нескрываемым изумлением. Например, дворянин Л.А. Лесли писал в дневнике, что крестьяне готовились «в полной мере защищать Отечество от нахлынувших врагов-басурман, нехристей, как они сами перетолковывали, хотя им иначе объясняли».
«Продлить страдания басурман»
Для борьбы с недругом, ставшим воплощением традиционного архетипа, вполне подходили те же средства, которые в глубокой древности защитники Святой Руси успешно применяли против ее врагов.
Именно такой экстраполяцией былинных сюжетов на события 1812 года, вероятно, и была обусловлена чрезвычайная популярность в народе песни о допросе Кутузовым (в некоторых вариантах Платовым) французского майора. Там русский генерал сначала расспрашивает пленного, а затем собственноручно избивает его, поскольку полученные показания не устроили допрашивающего. Подобная ситуация, совершенно немыслимая в действительности, оказывалась вполне естественной для коллективного воображаемого, поскольку воспроизводила былинную фабулу о допросе «татарищи» Ильей Муромцем.
Впрочем, придуманными сюжетами дело не ограничивалось. То, как поступали русские крестьяне с захваченными в плен французами, заставляло просвещенных современников вспоминать о самых мрачных страницах средневековой истории. В представлении народа антихристианская и дегуманизированная природа завоевателей ставила их вне сострадания, вне обычных морально-нравственных правил, допуская и даже предписывая по отношению к ним такое поведение, которое с подобными себе христианин вряд ли бы себе позволил.
По свидетельству находившегося в рядах русской армии английского генерала Роберта Томаса Вильсона, крестьяне старались максимально продлить страдания пленников, подвергаемых моральным и физическим мучениям, поскольку быстрая и легкая их смерть стала бы «оскорблением русского Бога Возмездия». Более того, по мнению крестьян, в противном случае они могли бы «лишиться его покровительства».
Интересно, что мотивы такой жестокости народной массы по отношению к врагу были вполне понятны Кутузову. В частности, известен его разговор с французским парламентером генералом Лористоном, состоявшийся 5 октября 1812 года и зафиксированный тем же Вильсоном: «Лористон поначалу жаловался на варварское обращение русских с французами, но ему было указано на невозможность за три месяца цивилизовать нацию, которая почитает неприятеля худшим врагом, нежели грабительская орда Чингисхана. Лористон возразил на сие, что "все-таки здесь есть некоторое отличие". "Может, оно и так, – отвечал Кутузов, – но отнюдь не в понятиях народа"».

Наполеонова гвардия под конвоем старостихи Василисы. Худ. А.Г. Венецианов. После 1812 (Фото предоставлено М. Золотаревым)
Идолище Поганое
Впервые за 200 лет столкнувшись с неприятельским нашествием, обитатели русской деревни, до того знавшие о вторжениях иноземных «нехристей» лишь по произведениям устного народного творчества, прибегли в борьбе с противником именно к тем средствам, которыми когда-то пользовались их предки.
Русские мужики не просто подняли, если снова вспомнить образ Толстого, «дубину народной войны», что само по себе уже не сулило неприятелю ничего хорошего, – они подняли ее в конфликте религиозном, со всем присущим ему истребительным, тотальным характером.
Таким образом, анализ представлений «безмолвствующего большинства» о сущности развернувшегося на полях России великого противостояния 1812 года полностью снимает с повестки дня вопрос, открывающий эту статью: мог ли Наполеон выиграть «русскую кампанию», обещав свободу крепостным? Русские крестьяне просто не восприняли бы в качестве своего «освободителя» того, кто был для них «хуже грабительской орды Чингисхана», того, кто стал в один ряд с такими врагами Святой Руси, как Идолище Поганое и Батый Батыевич.
Александр Чудинов,доктор исторических наук
Александр Чудинов