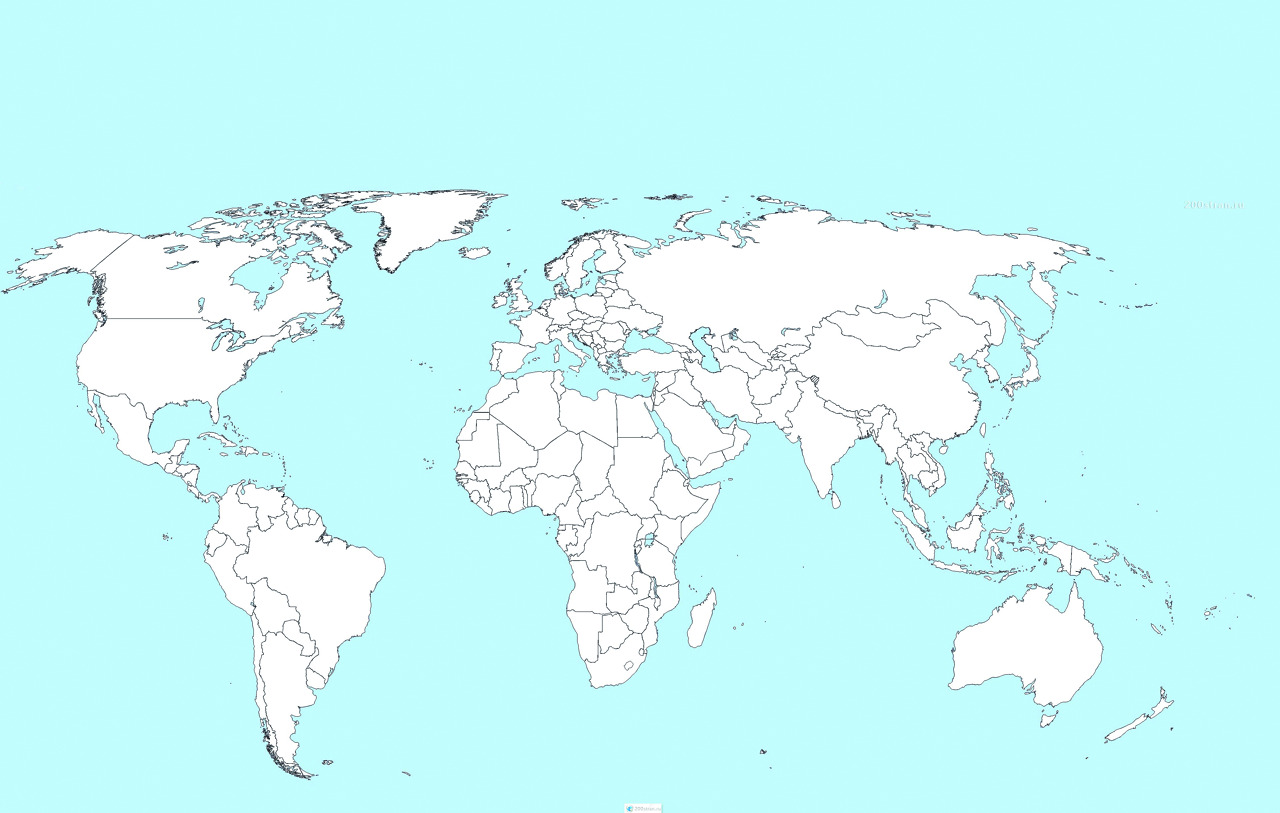«Наступили великие и страшные дни»
№26 февраль 2017
Февраль 1917-го… Были ли у революционных событий столетней давности подлинные демиурги или все-таки стихия управляла процессом? Лучшие умы бьются над ответом на этот «проклятый» вопрос уже целый век. С событиями октября 1917-го все проще: Ленин с товарищами целенаправленно и вполне расчетливо готовили государственный переворот, чтобы подхватить выпадающую из рук Временного правительства власть. В феврале же большевики явно были на вторых ролях. А кто же был на первых?
Либералы, задолго до этого начавшие борьбу за ответственное перед Думой, а не перед царем правительство и готовые любой ценой добиться своего? Эсеры с меньшевиками, пользовавшиеся к этому времени огромным влиянием среди широких народных масс – как в столице, так и в стране в целом – и сумевшие вовремя возглавить стихийный протест? Царские генералы, потерявшие веру в эффективность государственной машины и ее бессменного рулевого? Заграница в лице союзников, к 1917 году развернувших беспрецедентное давление на Николая II с тем, чтобы обеспечить в России такой расклад сил, при котором она даже теоретически не имела бы шансов заключить сепаратный мир с Германией, а значит, продолжала бы воевать на стороне Антанты до победного конца?
Скорее всего, каждая из этих сил внесла свою лепту. Если это действительно так, начавшаяся в феврале 1917-го Великая русская революция сполна рассчиталась со своими доморощенными демиургами. Те, кто не сгинул на полях Гражданской войны, у расстрельных стенок ЧК или в подвалах белых контрразведок, вынуждены были искать приют на чужбине, не имея возможности даже умереть на Родине…
Впрочем, за несколько дней до начала революции в феврале 1917-го, казалось, ничего не предвещало беды. Жизнь текла по устоявшемуся руслу. На фронте армия сражалась «с германцем» и «австрияками». В тылу обыватель терпел неудобства. Власть решала текущие вопросы. В царской семье дети болели корью, и император, вынужденный уехать в Ставку, душой и мыслями был, конечно же, с ними. Культурная жизнь обеих столиц кипела: премьеры спектаклей, поэтические вечера, выставки и диспуты, сменяя друг друга, добавляли ощущения обыденности происходящего.
«Как и всегда бывает в таких случаях, повседневная мелочная жизнь города шла своим чередом, стараясь по возможности не замечать революции», – записал в октябре 1917 года находившийся тогда в Петрограде американский журналист Джон Рид. Можно биться об заклад: то же самое было и в феврале. Показательна такая история. Писатель Михаил Пришвин в самый разгар февральских событий сделал в дневнике пометку о своем звонке Кузьме Петрову-Водкину и реакции художника на рассказ о революции: «Ничего не знает, рисует акварельные красоты, очень удивился». Между тем Российская империя доживала свои последние дни и часы…
Трагизм революционного момента, на мой взгляд, именно в этом и состоит: переход из привычного «сегодня» в разломанное революционными бурями «завтра» происходит настолько незаметно, что публика, за исключением разве что горстки политических активистов, обращает внимание на изменения лишь post factum. «Мы проснулись в совершенно другой стране»: сколько раз эту, вмиг ставшую избитой, фразу на разные лады повторяли очнувшиеся современники в течение всего 1917 года? А сколько – в течение всего длинного ХХ века? Одному Богу известно.
Впрочем, уже спустя некоторое время тот же Пришвин запишет: «Наступили великие и страшные дни». Ему уже тогда – на рубеже февраля-марта 1917-го – так будет казаться. Хотя, если вдуматься, «великие и страшные дни» были еще впереди. Революция, которая вроде бы уже завершилась свержением не самого популярного монарха, на самом деле только набирала свои великие и страшные обороты. Следом шла Гражданская война и совершенно другая – не менее великая, но и не менее страшная – эпоха.
А в те февральские дни ощущение «уходящей натуры» – когда все вокруг вроде бы как всегда, но уже завтра этого «как всегда» не будет никогда – только формировалось. «Сегодня утро сияющее и морозное и теплое на солнце – весна начинается, сколько свету! На улице объявление командующего войсками о том, что кто из рабочих не станет завтра на работу – призывается в действующую армию. Мелькает мысль, что, может быть, так и пройдет: вчера постреляли, сегодня попугают этим, и завтра опять Русь начнет тянуть свою лямку…» – записал 27 февраля 1917 года в своем дневнике Михаил Пришвин.
Думаю, он уже сам понимал, что «так» не пройдет. Просто из последних сил интуитивно – как и миллионы окружавших его людей – цеплялся за уходящее прошлое, которое еще вчера, будучи настоящим, казалось не очень-то достойным и уважения, и сбережения, но теперь, когда все рушилось на глазах, представало в совершенно ином свете.
Владимир РУДАКОВ,главный редактор журнала «Историк»
Владимир Рудаков