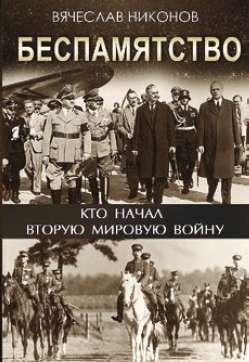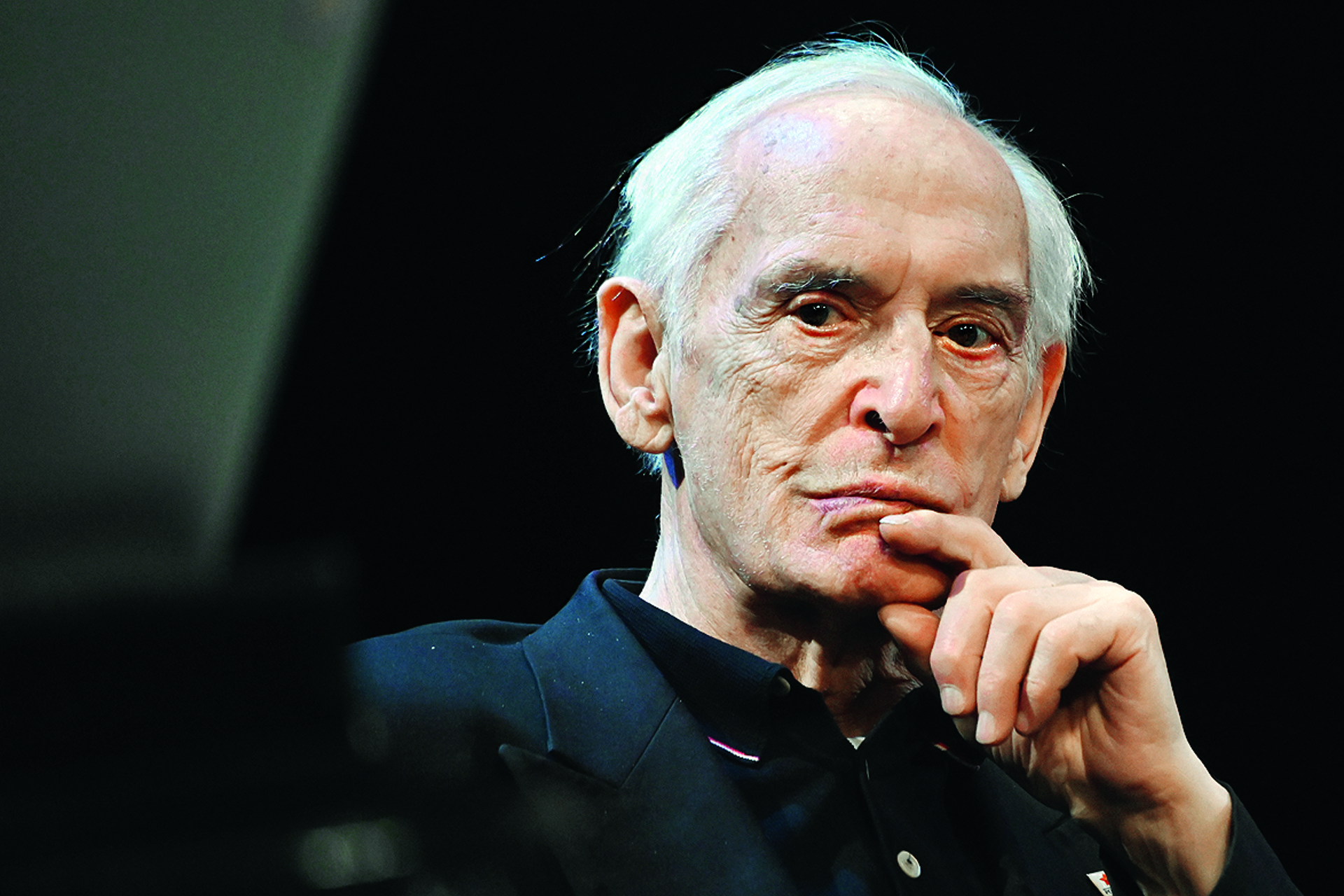На всю оставшуюся жизнь
№65 май 2020
Многие из тех, кто прошел войну, не любили говорить о ней. И все-таки история донесла до нас скупые рассказы вернувшихся с фронта
Они не хотели бередить старые раны, берегли нервы тех, кто не представлял себе, в каком аду им довелось побывать тогда. Каждый такой рассказ – страшное и святое свидетельство о том, что пришлось пережить поколению победителей, сумевших сохранить память о Великой Отечественной войне на всю оставшуюся жизнь.
«Цепь легла – и все»
Из воспоминаний командира пехотной роты, Героя Советского Союза Владимира Евдокимова

Конечно, основная задача командира роты – управлять людьми. Очень непросто, когда люди очень долго в обороне сидят, потом их поднять в атаку. Привыкает человек к своему окопу, а тут надо вылезать и во весь рост идти в атаку. А тебя же враг расстреливает в упор из всех видов оружия: из автоматов, из пулеметов, бьют минометы, артиллерия, танки. Это ад кромешный! А задача врага в данном случае – положить атакующую цепь: нанести максимальные потери и положить. Цепь легла – и все. Атака захлебнулась. Никто вперед не пойдет – ни танки, ни артиллерия. <…>
Чувство самосохранения – это от природы. Никуда не денешься. Страшно в атаку идти. Очень страшно. Тем более быть уверенным, что все пойдут, что рота пойдет. Особенно когда долго в обороне сидела. Но у меня не было случаев, что не пошли. Знаете, если боец не поднимется, его тут же расстреляют. В этом же окопе. Поэтому, конечно, чувство самосохранения – его никуда не денешь, но тут же рядом чувство выполнения долга. И перед своими родными, и перед страной.
Да, чувство самосохранения человеку от природы дано. А чувство долга надо воспитывать. Длительно, годами, непрерывно, постоянно. Даже в человеке образованном. Это надо воспитывать. Чтобы он на смерть сознательно пошел! <…>
Солдату в таком большом масштабе, там «за Родину», «за Сталина», – неважно. Ему надо разъяснить, что он за своих близких воюет. Вот это, пожалуй, для него главнее, чем что-то глобальное. Вот сказал, что ты воюешь за мать, сестру, девушку знакомую. Это важно! <…>
100 граммов обязательно было. Не помню в отношении лета, а зимой 100 граммов на каждого солдата обязательно. Я думаю, это в какой-то мере дух боевой солдат поднимало. Выпьет 100 граммов – и ему будет не так страшно в бой, в атаку идти. <…> Сам я лично за всю войну никогда не был выпивший. После боя, может, там и выпивал грамм. А в бою никогда! Специально уклонялся. Если выпью 100 граммов – уже не так соображаю. Были случаи, некоторые стаканчик «за воротник». А я нет.
«Женщинам очень тяжело в армии было»
Из воспоминаний минометчицы и снайпера, кавалера двух орденов Отечественной войны Нины Смаркаловой

…Меня перевели в минометную роту: сначала наводчицей батальонного миномета, а потом я стала командиром расчета. Звание у меня было сержант. У меня было четыре бойца – девушка-наводчица, заряжающий и два подносчика. <…> Одевалась я в обычную солдатскую форму, форменные юбки появились позднее. Зимой мы все были в основном в шинелях, ватников было мало. Ватных штанов не было. Ватник, ватные штаны и маскхалат мне выдавали, только когда я шла на нейтралку за финнами охотиться. <…>
Иногда стрелять приходилось много, а иногда за целый день вообще не стреляли. Мой муж, когда с разведгруппой отходил от финнов, иногда просил заградительный огонь – и тогда мы много стреляли. Или когда боевое охранение просило огонь, отсечь группу финнов – тоже приходилось стрелять.
Женщинам очень тяжело в армии было. Меня часто посылали на истребление финнов в качестве снайпера. Выдавали снайперскую винтовку с оптическим прицелом, белый маскхалат – и вперед. Летом маскхалаты не выдавали. Вот это было занятие малоприятное. Все время на передовой, все время с солдатами, даже в туалет не сходить. Весной или осенью в траншеях вода. Один раз шли по траншеям, залитым водой, и я говорю: «Давайте выползем на бруствер и по верху поползем, а то невозможно просто! Мне еще полдня на земле лежать!» Только поползли по брустверу – «кукушка»: «Бах! Бах!» Спустились обратно в воду. Прошли немного, я говорю: «Наверное, "кукушка" нас потеряла уже. Давайте опять выползем!» Выползли наверх, и опять «кукушка» по нас бьет. Опять по колено в воде. <…>
Как у нас можно было мыться? Зимой снегом обтирались и мылись. Летом иногда было такое – жарко, воды нет. Тогда если от колеса на дороге оставалась колея или след от копыта лошади, наполненные водой, то делали так – зачерпывали ладонью, отгоняли головастиков немного, а эту коричневую воду, почти жижу, пили. И не болели. Каждое утро нам обязательно выдавали кружку отвара хвои. За весь период на фронте я была в бане только один раз. Нынешняя жизнь в этом плане, конечно, поражает. Как вспомню, в каких условиях на фронте мы жили, спали и ели!.. На морозе в одной шинели были – и никто не болел. У нас была отдельная женская землянка, жили мы в ней впятером. Спали в землянках на деревянных нарах, на которые был накидан лапник. Плащ-палатка служила простыней, а накрывались шинелью.
«Это армия! Это ж не колхоз»
Из воспоминаний командира пехотной роты, кавалера ордена Красного Знамени Николая Чарашвили

Хороший командир тот, кто залезет в душу солдата и все его невзгоды, все его мысли изучит хорошо и постарается ему помочь, укрепить веру, если у него горе, чтоб это горе как-нибудь ушло от него. Вот это хороший командир называется. Это тот, кто о своем солдате заботится так же, как он бы заботился, например, о своем сыне! Вот это командир называется! Я всегда знакомился со своими солдатами на отдыхе или во время передышки. На фронте кино нету, театра нету, танцев нету – в окопах сидишь. О чем-то надо с солдатами разговаривать? Вот ты их изучаешь: с какой области, кто у него дома, жена, дети, мать, отец и так далее. Переписку имеет или нет, может, у него какое горе… Командир должен знать солдат! <…>
Если один солдат встал и побежал, а командир это дело не пресек – знай, что за ним побежит второй, а потом и весь взвод убежит. Потому что, когда лежишь, бьют по тебе, а ты видишь, что Ваня или Петя убежал, в тылу жить будет, почему ты должен здесь лежать и умирать? Задача командира не допустить, чтобы первый убежал. Иногда приходилось и расстреливать бегущих… У меня в роте расстреляли командира взвода грузина Тцхамелидзе. Вот у него так, как я рассказал, весь взвод убежал, и его по приговору трибунала расстреляли. Но чтобы твой солдат не побежал, до боя ты его должен подчинить своей воле, чтобы – какое бы тяжелое положение ни было – он не мог бы без твоего разрешения бросить поле боя. Это же война! Вот так мы воевали! <…>
У меня был бывший уголовник, весь в наколках. На ногах написано: «Они устали». На руках: «Умри, злодей, от моей руки», «Люблю мать родную и отца-подлеца». Как-то проходит мимо меня, а я стою так, жду своего заместителя. Честь мне не отдал. Я подозвал его: «А ну-ка, вернись!» Он вернулся. «Застегнись!» Он застегнулся. Я говорю: «Я ж твой офицер! Твой командир. Ты проходишь мимо меня, почему честь не отдаешь?» Он смотрел-смотрел: «А! Честь, да? На, б…ть, на, б…ть, на, б…ть». Несколько раз. Я ему спокойно говорю: «Десять суток строгого ареста!» А строгий арест – значит, через день кормят: один день тебя кормят нормально, а второй день дают только воды и кусок хлеба. Посадили его. После этого как миленький честь всем офицерам отдавал. Вот, воспитание, слушай! Это армия! Это ж не колхоз!
«Жизнь моя кончилась, все»
Из воспоминаний медсестры Зинаиды Варгиной

Когда сняли блокаду, я помню, что нас направили в Прибалтику, под Нарву. Мы как раз расположились напротив кладбища. Там притаились эстонцы и немцы. Все время снайперы били. Очень много стреляли. Потом где-то под Нарвой меня тяжело ранило. <…> Я долго не отходила, потом в операционной все-таки пришла в сознание и слышу, как хирург говорит: «Она не будет жива, у нее проникающее ранение в череп, все». Я думаю: «Жизнь моя кончилась, все». Ничего не стали делать, просто перебинтовали. Сразу эвакуировали. Сначала на санях, меня положили между двумя красноармейцами. Когда ехали по Нарве, был опять обстрел, и я одна осталась жива. Всех убило, пока везли. <…>

Воздушный бой
Привезли меня в распределитель и говорят: «Что это столько бинтов у вас?» Я говорю: «Не знаю, это мне все в полевых госпиталях только бинты на голову наматывали, ничего не делали». Привезли меня на Бородинскую, там женский госпиталь был развернут в школе. Привезли меня туда уже почти в два часа ночи. Поскольку у меня было такое ранение, с которым они столкнулись впервые (один осколок попал в ухо, а второй – в затылок, там дырка была), то они быстро вызвали профессора Давиденского, и он начал меня туда-сюда осматривать. <…> Он сделал рентген, засунул мне руку в рот и нащупал этот осколок. Он застрял во рту в левой челюсти. Через ухо прошел и расположился в челюсти. А один осколок в затылке. <…> Профессор осмотрел меня и говорит: «Все, несите ее в палату, завтра будем делать операцию». Какое завтра, когда было уже четыре часа ночи? Утром привезли меня опять в операционную, и он хотел мне челюсть снаружи разрезать, чтобы вытащить осколок. Я говорю: «Нет, профессор, я это вам не дам делать». Зачем, говорю, вам меня уродовать, когда можно операцию через полость рта сделать и осколок оттуда вытащить. Он говорит: «Что?!» Я говорю: «Ничего! Осколок надо через рот вытаскивать, не надо мне всю щеку разрезать». – «А кем ты работаешь?» – «Медсестрой». – «Ну, тогда понятно», – говорит. Я говорю ему: «Я же молодая, всего двадцать два года. Зачем же вам меня портить так?» <…>
Сделал он мне эту операцию. Операция проходила как? Три раза сознание теряла, потому что без наркоза, анестезию сделали небольшую. Вытащил он мне этот осколок изо рта и показывает. Этот осколок был прямо как ключ, загнутый. Говорит: «Вот какой у тебя там осколок лежал!» Я в ответ: «А вы хотели мне такой осколок снаружи вынимать!» Он говорит: «Ну, все понятно, боишься, наверное, что тебя замуж никто не возьмет». Я говорю: «Не знаю, возьмут или не возьмут, но не надо молодых девушек портить. Делайте все как положено».
«Летающая портянка»
Из воспоминаний летчика-истребителя, кавалера двух орденов Красного Знамени Леонида Перова

В феврале сорок третьего под Таганрогом возвращались с Борей Окрестиным с дневной разведки и попали под сильный обстрел. Ушли уже вроде, и тут Борька кричит:
– Ленька, в бак угодили!
Окрестин – классный летчик, отлично маневрировал, уходил и от прожекторов, и от огня, но днем с этим, конечно, было куда сложнее, и нам иногда прилично доставалось. Однако По-2 был живучий, фанера да перкаль – его еще часто «летающей портянкой» звали. Главное дело, чтобы в мотор не угодили и чтобы не загорелся. А тут – бензобак. Я тоже почувствовал, что кроме запаха выхлопа здорово бензином потянуло.
– Садиться надо, – кричу Борису. – А то сгорим!
А сам по ориентирам прикидываю, долетели мы уже до нейтральной хотя бы полосы или нет. В общем, сели мы на вынужденную на нейтральной полосе, выскочили из самолета, стали пробоину искать. А немцы-то видели нас и в том направлении, куда мы снижались, стали из миномета лупить. Первый разрыв – метров сто от нас. Второй – ближе, метров 70–80… Нашли мы с Борькой пробоину – оказалась от пули. И бензин из нее резво так бежит. Борис дырку пальцем заткнул и спрашивает:
– Что делать будем, штурман?
Надо было чем-то пробоину заделать. Но чем? Вокруг – голая степь. Ни деревца, ни кустика. А минометные разрывы уже в полусотне метров.
Я к лючку, где всякие тряпки. Стал шарить – есть! Палочка деревянная. Откуда она там взялась – думать некогда было. Палочка-то есть, но – квадратного сечения. А дырка – круглая! И тут я вспомнил, что у меня в планшете бритвенное лезвие заначено. Полез быстро в кабину, достал лезвие. Тут как раз наши с передовой помогли, стали по немецкому минометчику стрелять. Он притих на какое-то время – может, на минуту-другую всего, – но мне как раз этого и хватило. Я лезвием деревяшку эту подогнал быстренько по диаметру пробоины и обмотал тряпкой. Заткнули мы дырку, я пропеллер крутанул, Борька запустился…
Взлетели мы с этой поляны, а когда разворачивались на курс – прямо в то место, где мы вокруг самолета прыгали, мина саданула. Вот так. <…>
Война – штука, как бы это сказать… непростая. Как-то раз, после Сталинграда, у меня пленный попросил закурить. Их гнали через деревню, где мы отдыхали. Не помню точно – румыны это были, а может, венгры. Да и неважно. В общем, он попросил у меня закурить – а я не дал. Зло только посмотрел на него – и не дал.
И всю жизнь мне за это стыдно.
Раиса Костомарова