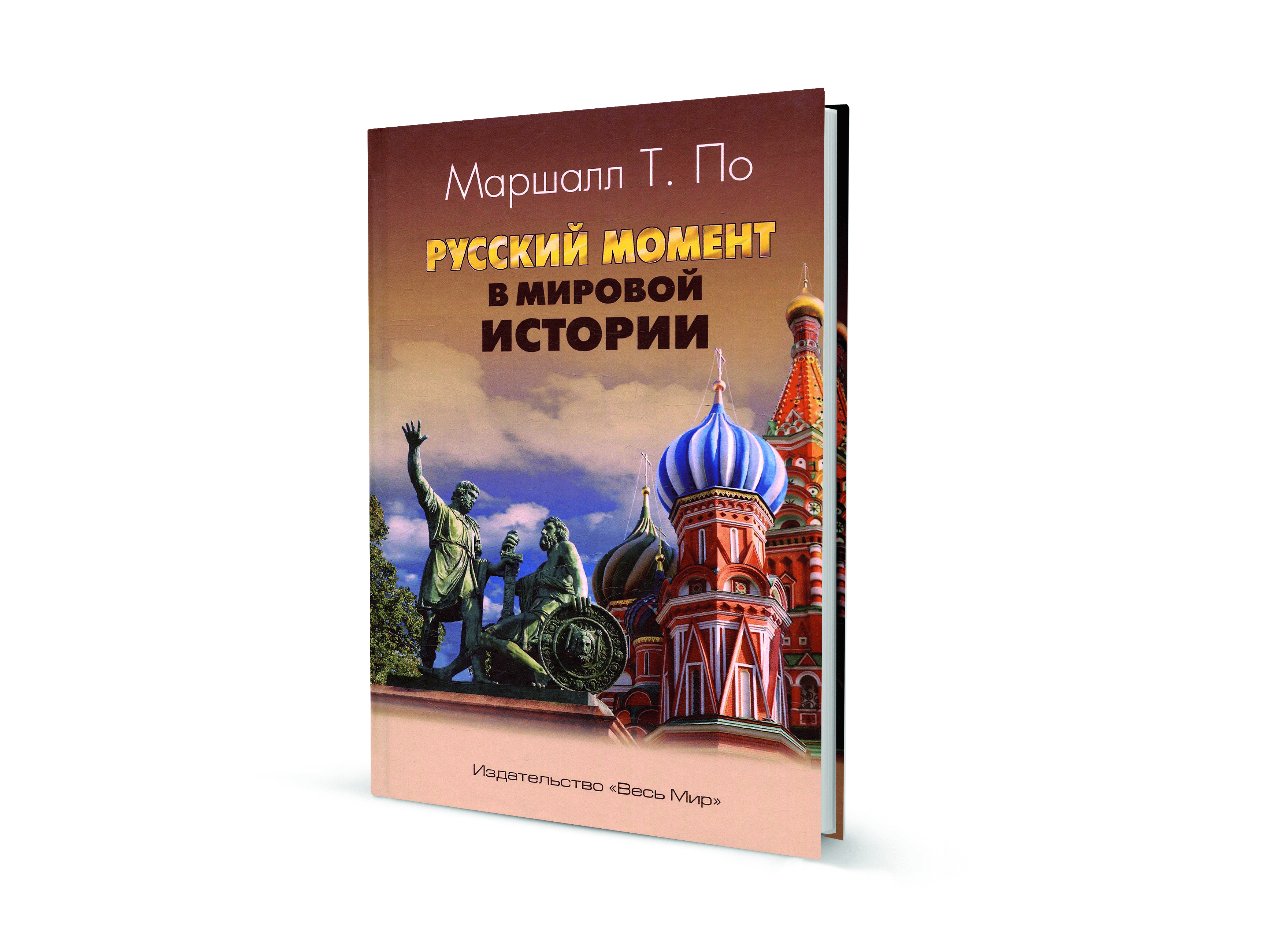Угол Ленина и Горбачева
№130 октябрь 2025
17 октября 1905 года Николай II ограничил самодержавную власть, сохранение которой было одним из краеугольных камней его политической философии, его жизненным credo. Император установил «как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей». К этому времени в стране почти год бушевала Первая русская революция. Именно под ее напором Николаю II пришлось пойти против собственной воли – воли «Хозяина земли Русской», как он сам себя охарактеризовал в опросной анкете Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года.

После издания манифеста пройдет еще одиннадцать с небольшим лет – и от монархии не останется и следа. Мне представляется, что ее крушению поспособствовали три обстоятельства. Первое – избыточный пафос, выражавшийся и в такого рода самоопределениях, и в бесконечных множественных числах («Мы, Николай II...»), и в заглавных буквах – при титуловании не только императора, но и любых «принцев и принцесс крови» («Их Императорские» и просто «Высочества»). В стране, где уже накопилась критическая (в том числе и критически мыслящая) масса self-made – «самих себя сделавших» – людей, которые собственным трудом добились зримых результатов на военной и статской службе, в бизнесе, науке, выпячивать все эти «родовые признаки» было явно избыточным. Второе – абсолютная политическая нечуткость к настроениям подданных, к самой стилистике времени. Сразу после восшествия на престол император назвал «бессмысленными мечтаниями» стремление представителей дворянских обществ, земств и городов участвовать в делах внутреннего управления. Хотел напугать, а получилось комично. Один из присутствовавших на высочайшем приеме в январе 1895 года так описал произошедшее: «Вышел офицерик, в шапке у него была бумажка; начал он что-то бормотать, поглядывая на эту бумажку, и вдруг вскрикнул "бессмысленными мечтаниями" – тут мы поняли, что нас за что-то бранят, но к чему же лаяться?» Это несоответствие заявленной непреклонности реальному, как принято выражаться, политическому весу потом будет не раз проявляться в годы последнего царствования. Собственно, Манифест 17 октября и был одним из таких проявлений. И третье, самое главное – отсутствие решимости идти до конца. Николаю этого явно не хватало – ни во время революции 1905 года, когда сначала он не шел ни на какие уступки, а затем, наоборот, все время отступал, постоянно не успевая за меняющимися мнениями, ни во время кризиса конца 1916 – начала 1917 года, когда в условиях войны с внешним врагом он так и не решился подавить мятеж ни в собственной Ставке, ни в столице. «Кругом измена, и трусость, и обман», – записал в те дни император. Как вы думаете, почему каждый раз в критических ситуациях ему не было на кого опереться?
Впрочем, вернемся в 1905 год. После выхода манифеста власть хоть и пошла на жесткие меры, но о том, что в определенных условиях страну может накрыть вторая волна революции, старалась не думать. Не сумевших эмигрировать революционеров изолировали от общества, а на уехавших просто махнули рукой. Кто же мог знать, что «иногда они возвращаются»?
В Кирове (бывшей Вятке) на протяжении целого века существовал перекресток улиц Ленина и Горбачева (Ленина, разумеется, того самого, а Горбачева – не того, а Василия Александровича: найдите его фото в интернете – очень фактурный был дядька!). До определенного момента их биографии были очень похожи. Оба родились в 1870-м, оба из дворян, оба получили высшее образование, оба стали революционерами, оба были сосланы в провинцию. Дальше сходства заканчиваются. По возвращении из ссылки Ленин эмигрировал и в общей сложности более полутора десятков лет «удаленно» управлял «процессами». Горбачев остался в Вятке, руководил местной ячейкой РСДРП, участвовал в Первой русской революции. После издания Манифеста 17 октября революция пошла на убыль, и Горбачев, как и многие его товарищи, впал в уныние. Весной 1906-го он свел счеты с жизнью, решив, что раз с революцией покончено, так и жить незачем. Ленин тоже не верил в то, что новая революция случится еще при его жизни, но рук на себя не накладывал. В итоге весной 1917-го вернулся в Россию, а уже осенью возглавил «первое в мире государство рабочих и крестьян». Василию Горбачеву потом еще раз не повезло: летом 2025-го «его» улицу переименовали, а улицу Ленина, несмотря ни на что, не тронули. Кстати, в истории России был и другой Горбачев, которому тоже хронически не везло и которому тоже каждый раз не было на кого опереться…
Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк»
. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)
.png)