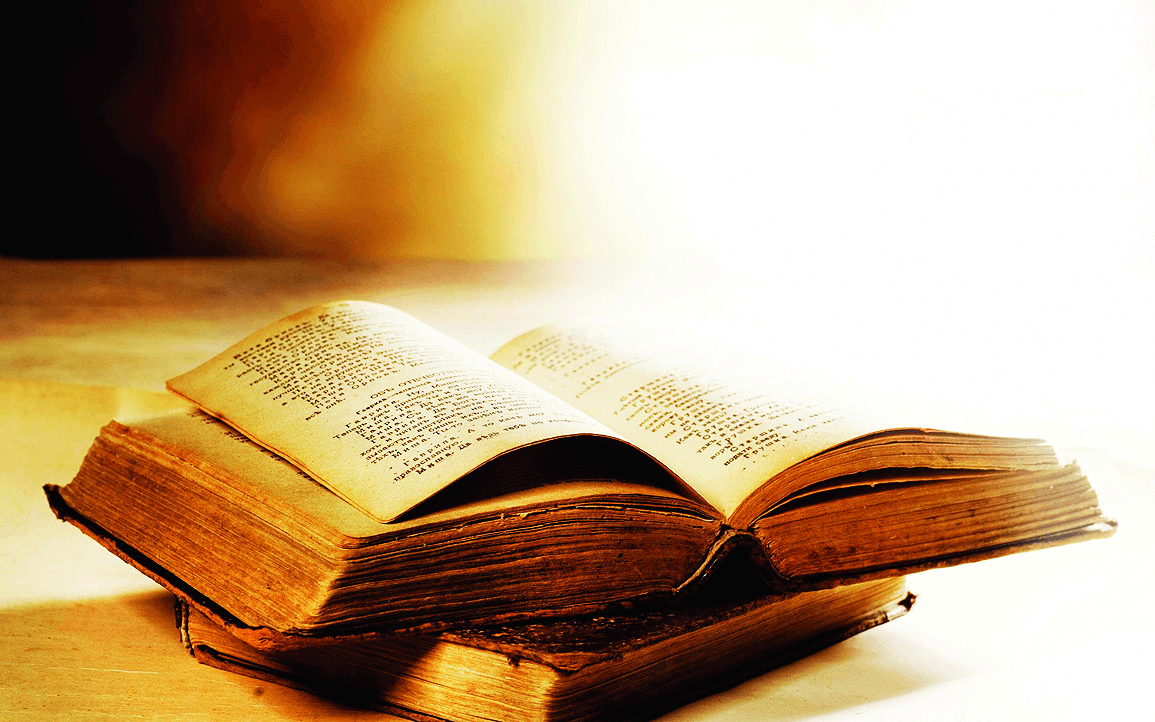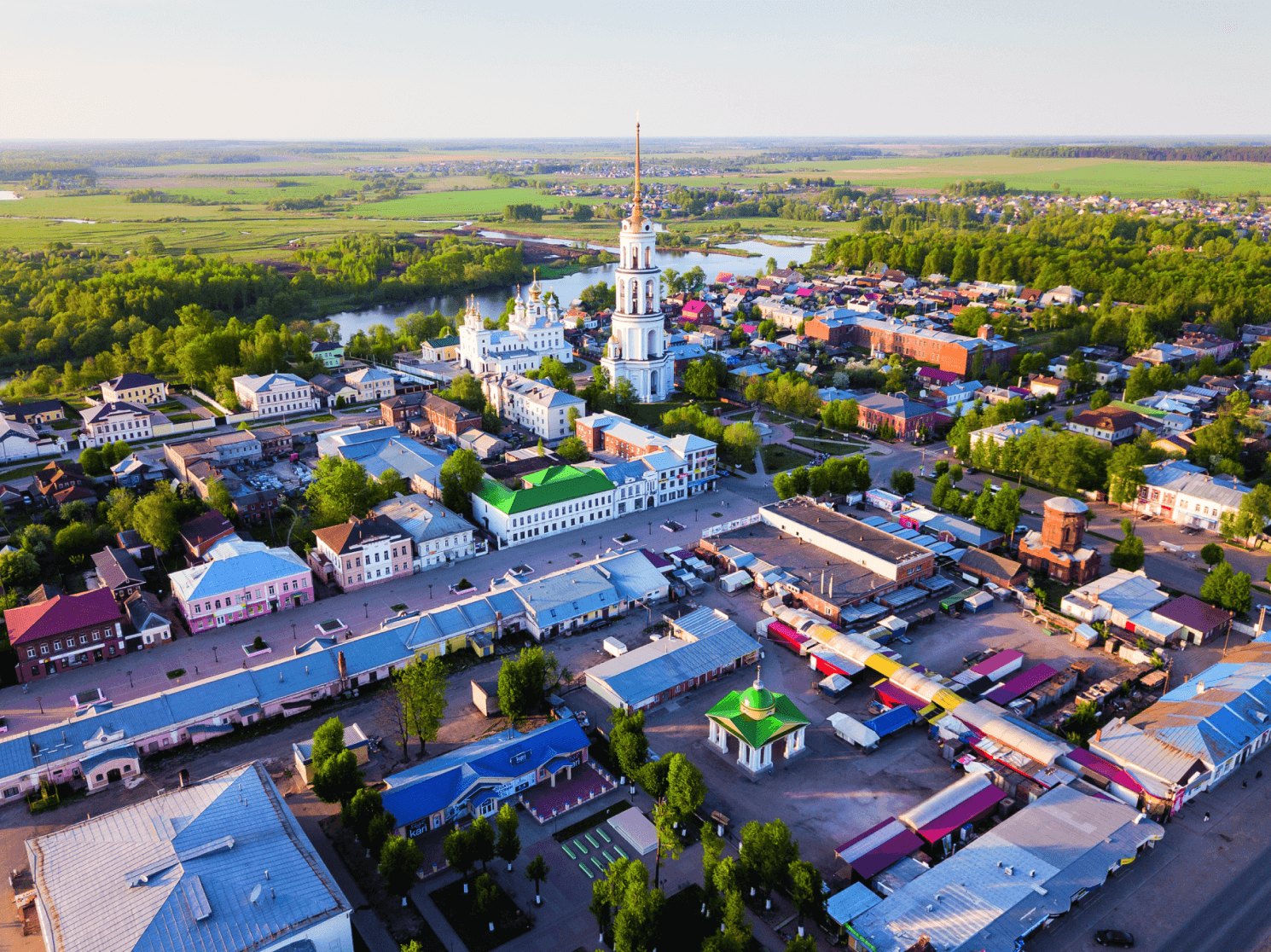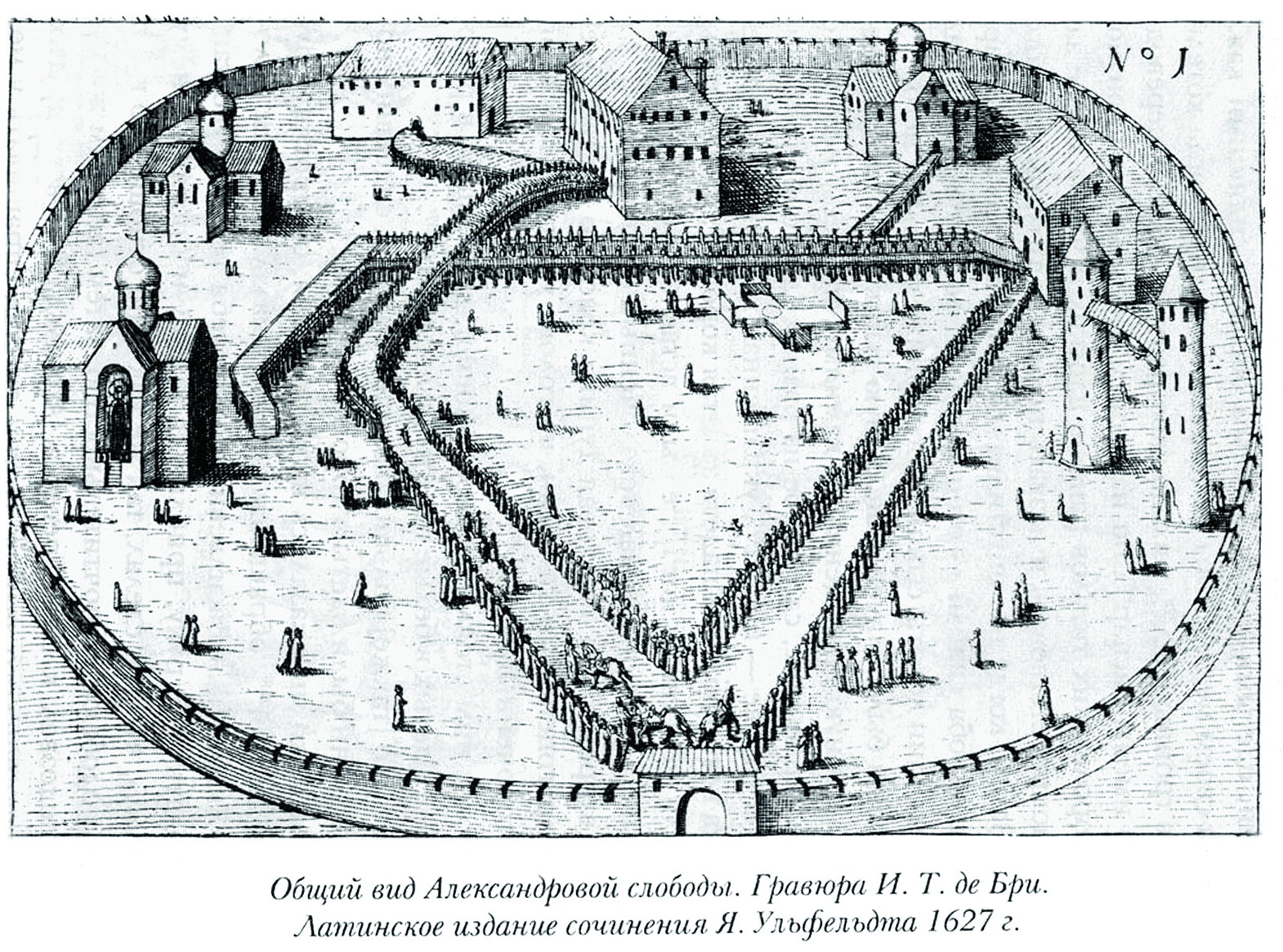Китайская стена
№122 январь 2025
Одним из итогов Второй мировой войны стало новое качество советско-китайских отношений. Освобождение оккупированных милитаристской Японией территорий Китая, а затем и победа в ходе гражданской войны партии, открыто ориентирующейся на Советский Союз, кардинальным образом изменили не только внутриполитическую обстановку в Поднебесной, но и мировой баланс сил. Москва и Пекин оказались по одну сторону «железного занавеса» – главного сооружения развертывавшейся в те годы холодной войны. Между ними установились не просто добрососедские отношения. Сотрудничество двух стран – «первого в мире государства рабочих и крестьян» и провозглашенной в октябре 1949 года Китайской Народной Республики – опиралось на близость идейных позиций. Обе правящие партии носили название «коммунистических». И хотя представления о том, каким именно должен быть этот самый коммунизм, и здесь и там имели отчетливые признаки местной традиции, до поры до времени единство взглядов казалось нерушимым.
Тогда, в конце 1940-х – начале 1950-х, лидерство СССР в мировом коммунистическом движении было неоспоримо: он являлся самой мощной в военном и экономическом отношении державой «социалистического выбора». Именно Советский Союз протянул руку дружбы и помощи весьма архаичному на тот момент и порядком ослабленному небывалыми испытаниями первой половины ХХ века Китаю. У Москвы на это были свои резоны. «Мы, большевики, контролировали почти 70% человечества: нам оставалось немного» – так спустя годы оценивал ситуацию один из ближайших сталинских соратников Вячеслав Молотов, долгое время стоявший у руля советской внешней политики. Чего в этих резонах было больше – пролетарского интернационализма, геополитических расчетов или идеологии? Кто теперь разберет. Но то обстоятельство, что влияние Советского Союза отныне распространялось на гигантское пространство Евразии «от Берлина до Пекина», должны были учитывать все. В том числе и «империалист № 1» – Соединенные Штаты.
Ключевым моментом этой поистине глобальной истории стало подписание 14 февраля 1950 года советско-китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Два лидера – Иосиф Сталин и Мао Цзэдун, встретившись в Москве, обозначили контуры одного из самых тесных союзов того времени, который предполагал не только экономическую поддержку (прежде всего Пекина со стороны Москвы), но при необходимости и взаимную военную помощь. Общий, уже зарекомендовавший себя в этом качестве враг СССР и Китая – Япония – был обозначен в договоре напрямую, остальные потенциальные противники – в завуалированной форме: «В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны Японии или союзных с ней государств и она окажется, таким образом, в состоянии войны, то другая договаривающаяся сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами».
С тех пор минуло 75 лет. За это время отношения между двумя договаривающимися сторонами прошли почти «полный цикл»: в конце 1950-х союзники капитально рассорились и вплоть до конца 1960-х отношения только ухудшались, затем – замерли на нулевой отметке, чтобы наконец начать возрождаться с приходом 1980-х. Тогда в Китае стартовали экономические реформы, а в СССР грянула перестройка: Михаила Горбачева за многое можно ругать, но справедливости ради стоит отметить, что именно при нем советско-китайские отношения вновь пришли в нормальное состояние. Впрочем, опыт реформ в двух странах оказался диаметрально противоположным: Китай спустя десятилетия создал первую в мире экономику, а советский проект рухнул, похоронив под собой и сам СССР.
В известном смысле мы поменялись ролями: для сегодняшней России прикрывающая наши тылы «китайская стена» – весьма значимый фактор поддержки в непростых внешнеполитических обстоятельствах. Важно и то, что, несмотря на разность исторических судеб, а также экономических и военных потенциалов, два государства смогли выйти на уровень взаимоуважительного партнерства. Многие пророчат, что именно ему предстоит стать одним из главных элементов нового мирового баланса сил. А в том, что этот новый баланс рано или поздно будет достигнут, нет никаких сомнений.
Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк»