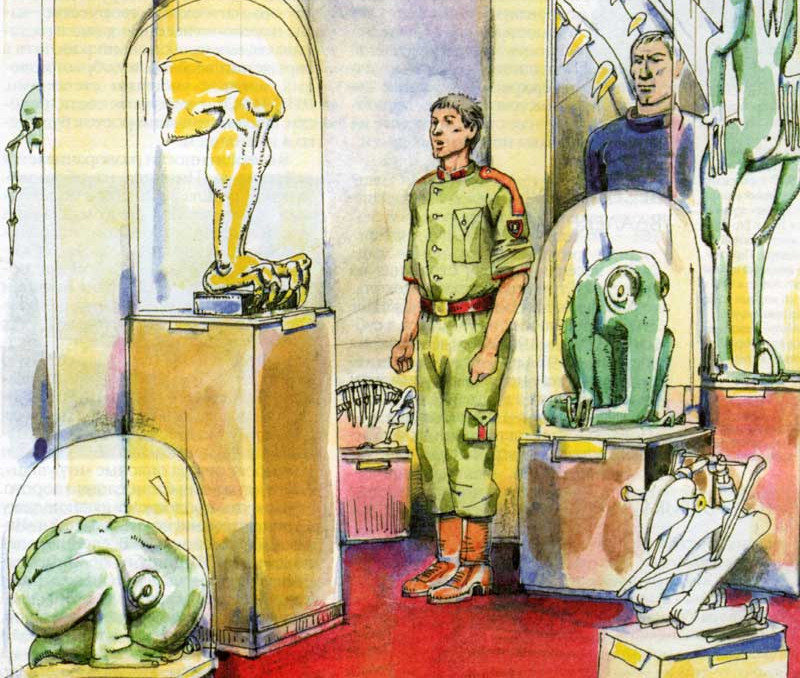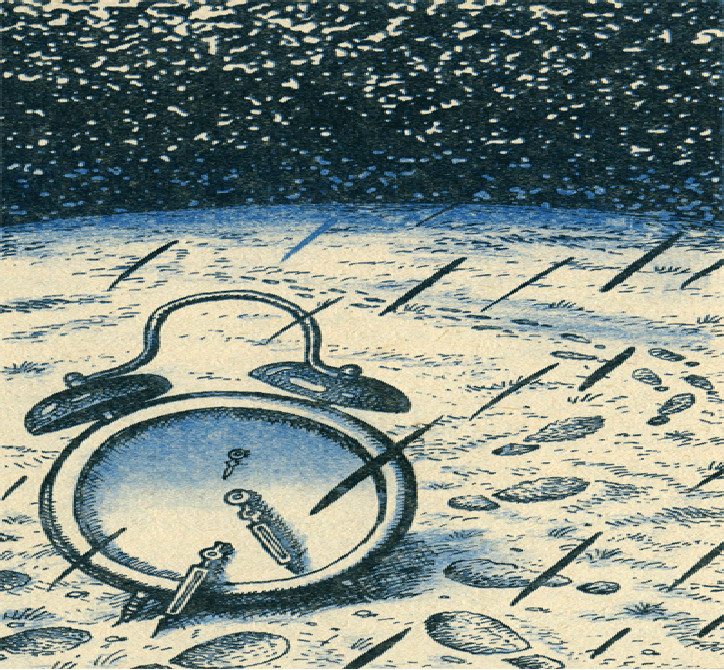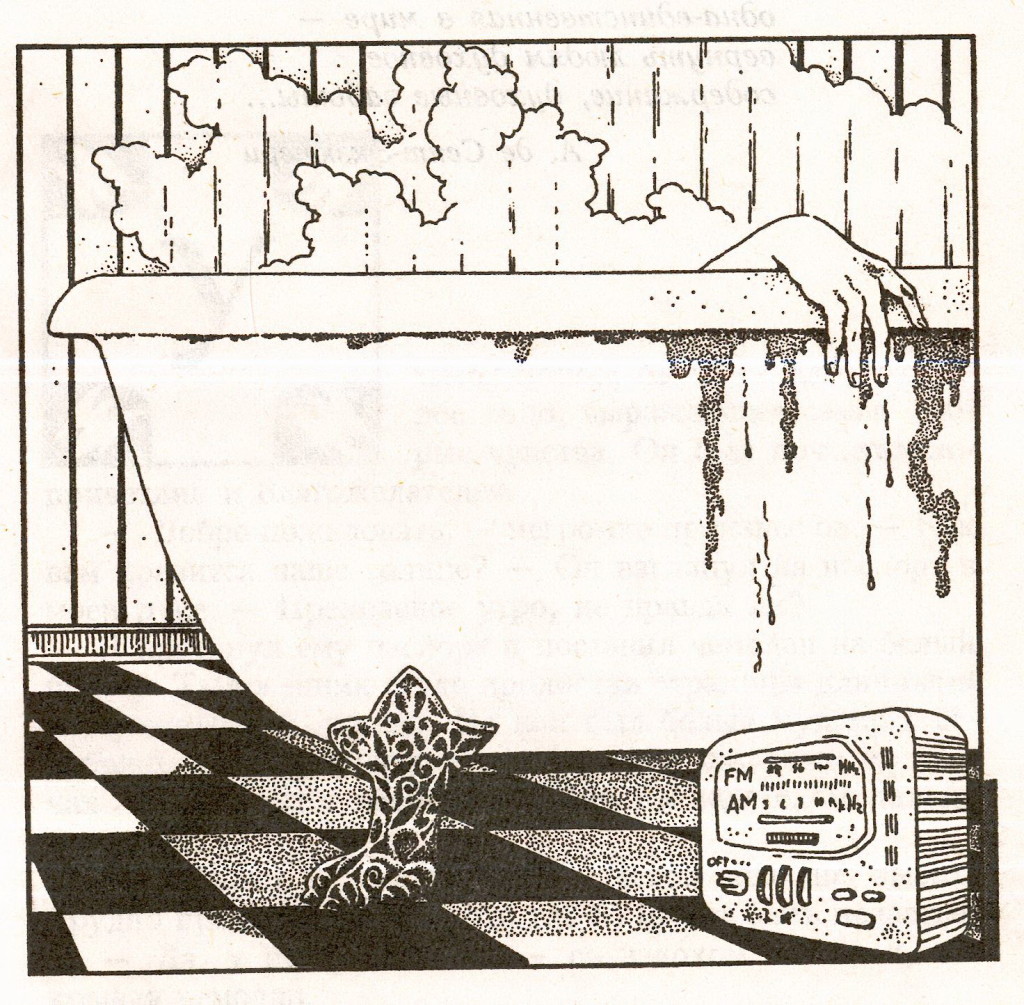По ту сторону истории (судьба исторического в советской фантастике 60–80-х годов)
05 Августа 2015
Самое большое открытие, когда читаешь советскую фантастику 60–80-х годов, сейчас, много лет спустя, — это её аполитичность. В будущем нет октябрят и пионеров. В нём нет комсомольцев. Да что там, коммунистической партии — и той нет. Конечно, всему этому можно дать объяснение. Может быть, редакции научной фантастики действовали так, как это описывают Стругацкие в своих воспоминаниях: «Вы там о политическом устройстве пишите лучше потуманнее, неопределеннее». Перестраховывались, не хотели забегать вперёд партийной идеологии, отнимать хлеб у работников Института марксизма-ленинизма. Может быть, причина была прозаичнее — сами фантасты слабо разбирались в идеологических хитросплетениях, да и писали всё больше о чудесном, о научных открытиях, потому и игнорировали вопросы будущего политического устройства. А может быть, во всём этом скрывалось общее представление, что общество будущего станет именно таким, аполитичным. Уйдёт в небытие всякая политика, борьба за власть, останется, как говаривал В. В. Розанов, одна рутина, управление, общий ход дела. Может быть, таким и должно быть это самое чаемое многими поколениями советских людей коммунистическое общество — без политики. Когда всё вокруг пронизано пролетарским классовым гуманизмом, есть ли необходимость в каких-то специальных, поддерживающих его политических институтах? Похоже, что нет, решило большинство советских фантастов и спокойно, с согласия Главлита, сосредоточилось на межзвёздных экспедициях, освоении океанских пространств и управлении погодой без ссылок на руководящую роль партии, без репортажей с партийных заседаний и живописных фигур парторгов и председателей галакомов и систкомов партии. Чего-чего, а вот этих реалий обычной советской действительности в подавляющем количестве фантастических романов и рассказов практически нет. Нет пятиминуток ненависти и назойливой пропаганды ангсоца, о которых писал Оруэлл. И идейной работы нет. Напротив, пропагандистские методы промывания мозгов по репродуктору кажутся невероятной архаикой, наследием классового антагонистического общества. Над таким насмешничают, ну вот как, например, в «Гриаде» А. Колпакова. Да и зачем действовать такими методами, когда с самого начала, с раннего детства готовится маленький гражданин светлого будущего к вступлению в жизнь общества дара с сознанием того, что о нём помнят, заботятся, его любят (см., к примеру, роман Г. Гуревича «Темпоград»). Но и от него, в свою очередь, ждут дар, потому что в обществе господствуют взаимная забота и дружеское расположение друг к другу.
В этой невероятной атмосфере спокойного делового или заинтересованного отношения людей друг к другу сосредоточен утопизм советской фантастической прозы. Нет конкуренции, противоборства и противостояния (рецидив его в романе Ю. Тупицына «Дальняя дорога» смотрится архаизмом и вызывает удивление), есть лишь расхождение во мнениях, разное видение проблемы. Как, например, в романе Е. Войскунского и И. Лукодьянова «Плеск звездных морей», где дискуссия о том, следует ли человечеству выходить из земной колыбели, лишена индивидуального подтекста, столкновения субъективных интересов, борьбы за статус. Она, равно как и решение, из неё вытекающее, — результат противоборства двух научно обоснованных перспектив развития человечества, а не борьбы амбиций.
Трудно даже сказать, откуда возникла эта мифология всеобщей идеологической зашоренности советского искусства. Фантастика, выросшая из коротких штанишек литературы для увлекающихся авиамоделированием, в 60-е годы настаивала на своей внеидеологичности не в силу сосредоточенности на вещах, далёких от социальных и политических вопросов, а в силу какого-то бессознательного убеждения в том, что наступающая эпоха тем и будет отличаться от уходящего настоящего, что в ней политические вопросы будут сняты и упразднены. Завершится бесконечная иссушающая и изнуряющая все силы человечества вражда, откроются возможности для решения настоящих проблем, появится время для обращения к более глубоким и насущным вопросам — смерти и бессмертия, пространства и времени, искусственного интеллекта, экологии.
Политическое сохранялось в советской фантастической прозе только для произведений, описывавших переходный период (И. Ефремов, Стругацкие), для романов и рассказов в которых авторы погружались в живописание «их нравов», экстраполированных на несовершенные общественные системы будущего (С. Абрамов, А. Шалимов, Г. Шах, З. Юрьев).
В остальном же политическое в советской фантастике становилось снятым, потерявшим актуальность. Перед читателем вставал образ самодействующего общества, в котором атрофировались функции государства, образ социума самоуправляющегося, в котором новые социальные порядки диктовали атмосферу ответственности, дружелюбия, сосредоточенности на труде и научном поиске. Простота обрисованного общественного устройства пленяла и завораживала.
Не оказало ли это отрицательное воздействие на поведение советского общества в конце 80-х — начале 90-х годов, когда оно не отреагировало на явные угрозы? Привыкшие к автоматизму социальной справедливости люди оказались неспособны помыслить себе общество иного, более жестокого и антигуманного типа. С другой стороны, в этом романтическом аполитизме было много больше идеологии, чем в следовании сухим партийным установкам.
Однако смерть политического в советской фантастике интересна не лишь сама по себе. Она признак иных фундаментальных изменений — смерти не просто политической истории, но и крушения истории в её современном понимании. И дело здесь не только в том, что история из сферы повествования о негативном, о бедствиях рода человеческого переходит в сферу положительного, истории человеческих свершений и достижений. Дело в утрате ценности исторического как такового.
В советской фантастике практически нет упоминаний ни о Ленине, ни о Сталине, вечный отблеск пролетарской революции приглушён, как и приглушено всё то, что актуально для человека XX века, — мировые войны, терроризм, исторический пафос социального протеста. Историческое, похоже, не имеет той актуальности для будущего, которое характерно для нашего сегодняшнего дня. Память о том, что было, аналогична нынешнему представлению о Средневековье. Общество будущего не только лишено идеологии и политики, оно лишено памяти, не архивной, с этим как раз всё в порядке, а той, что укоренена в повседневность и напоминает нам о былом через предметы быта и окружающее, той, что проскальзывает в бытовых разговорах. Прошлое занимает мало места, потому что оно ничтожно, позорно, оно прах, тлен и лишняя тяжесть, которая тянет человечество назад. Это в той или иной степени передано в романе Стругацких «Попытка к бегству», изображено практически в виде просыпающихся призраков атавизма в «Часе Быка» Ефремова.
Советская фантастика, рассказывающая об обществе XXII и последующих веков (почему-то именно этот век избран как эпицентр, узловая точка будущего многими авторами), — повествование о том, что случается уже по ту сторону истории. В центре её внимания история совершенно иного качества. Перед нами сложная, многомерная, ветвящаяся история. Наиболее хрестоматийный сюжет, отражающий это её новое качество, основан на релятивистском эффекте, расхождении темпов исторического времени для астронавтов, летящих к звёздам, и тех, кто остаётся на Земле. Миллионы проносящихся лет для двух героев: летящего к звёздам астронавта и ждущей его в анабиозе возлюбленной в «Гриаде» А. Колпакова — один из ярких примеров. Но здесь можно увидеть и иное. История теряет актуальность в своём социальном аспекте, ощущение её живого хода становится безразличным для личности. Личная история начинает довлеть над социальной и соперничать с ней. История отдельной личности становится значительнее и важнее истории человечества.
Ещё более оригинально представлен этот образ разнотемповой истории в романе «Темпоград» Г. Гуревича, где исторический путь человечества раздваивается, и меньшая его часть благодаря темпоральным изменениям забегает всё дальше и дальше вперёд от основного человечества. Безусловно, это можно рассматривать и как обобщённую метафору временных расхождений гения и основной массы человечества, переложенную на язык научной фантастики. Однако здесь важно другое: не движение масс, а опережающее развитие личности, творческого коллектива выступает той самой точкой социальных исторических изменений.
Но основной момент видоизменения истории связан в первую очередь с идеей её многомерности. История будущего перестаёт быть историей одного человечества. Она становится космоисторией.
Многомерность истории порождает проблему, которая была едва ли не основной в творчестве Стругацких в определённый период, — проблему прогрессорства. Она значима не только в моральном и этическом плане, на что обычно обращается внимание, но и в социально-историческом, поскольку за ней стоит вопрос более глубокий — вопрос о единстве человеческой истории, сопряжении её ветвей, разделённых теперь уже не просто географически, а и темпорально. Вопрос локальности или универсальности исторической перспективы развития общества встаёт острее, чем он представлен в научных и философских дискуссиях XX века. Более того, этот вопрос становится не отвлечённым, а практическим.
Подведём итог. Как было сказано выше, сферу исторического в будущем ждут большие изменения. Они протекают в нескольких аспектах. Во-первых, это смерть исторического, переход знания человеческой истории в область чисто архивную, лишённую актуального социального звучания в силу слишком уж большой дистанции между эпохой разделённого человечества и светлым коммунистическим будущим. Тем не менее даже такая история будет в определённой степени полезна как ключ к пониманию современных инопланетных обществ с точки зрения тех фантастов, которые всё-таки придерживаются концепции универсальности космоистории (И. Ефремов). Во-вторых, это замирание исторического в вечном настоящем. Политическая история завершена, и вся дальнейшая перспектива человеческого развития смещается в сферу научных открытий, свершений, которые и составляют основное содержание событийного ряда жизни. Но история открытий не образует того линейного исторического фактографического ряда, имеющего ценность и значимость в классической истории. В науке одни открытия забываются и стираются, другие имеют вечную непреходящую актуальность и определяют постоянный научный диалог, разворачивающийся в современности. В-третьих, это перенос истории в вектор будущего, а не прошлого. Детерминация прошлым заменяется детерминацией будущим, прошлое выступает лишь в роли строительного материала, не нуждающегося в постоянной рефлексии и осознании. В-четвёртых, это изменение представления о движущих силах истории. В центре истории становятся не народы, не классовые общности, а личности и небольшие сообщества, как правило, научные творческие коллективы, которые ведут за собой остальное человечество к новым высотам и свершениям.
Сергей Морозов