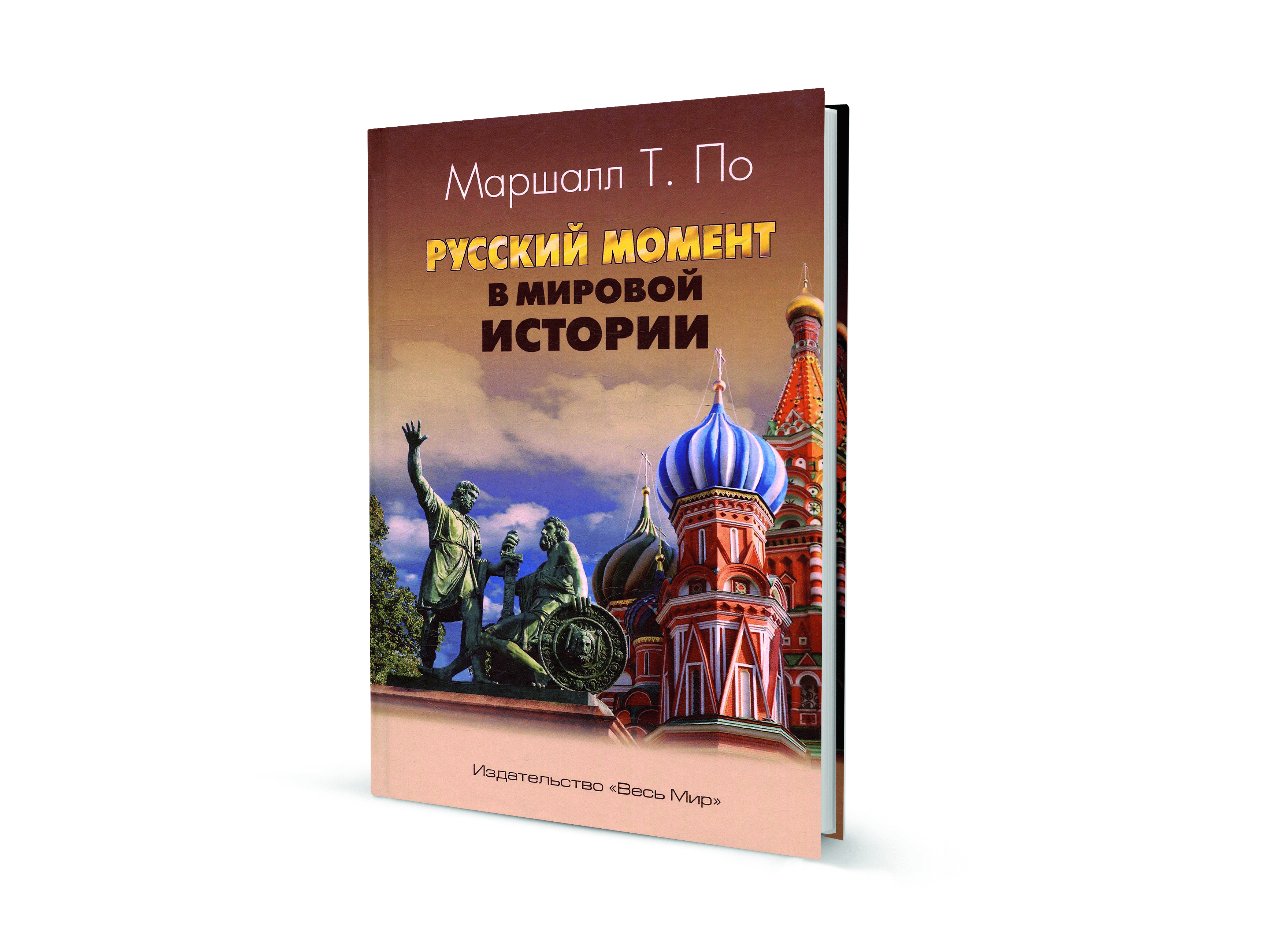Столетняя война
№130 октябрь 2025
Политизация демократической общественности не шла на пользу ей самой и стране в целом – ни в 1905 году, ни потом
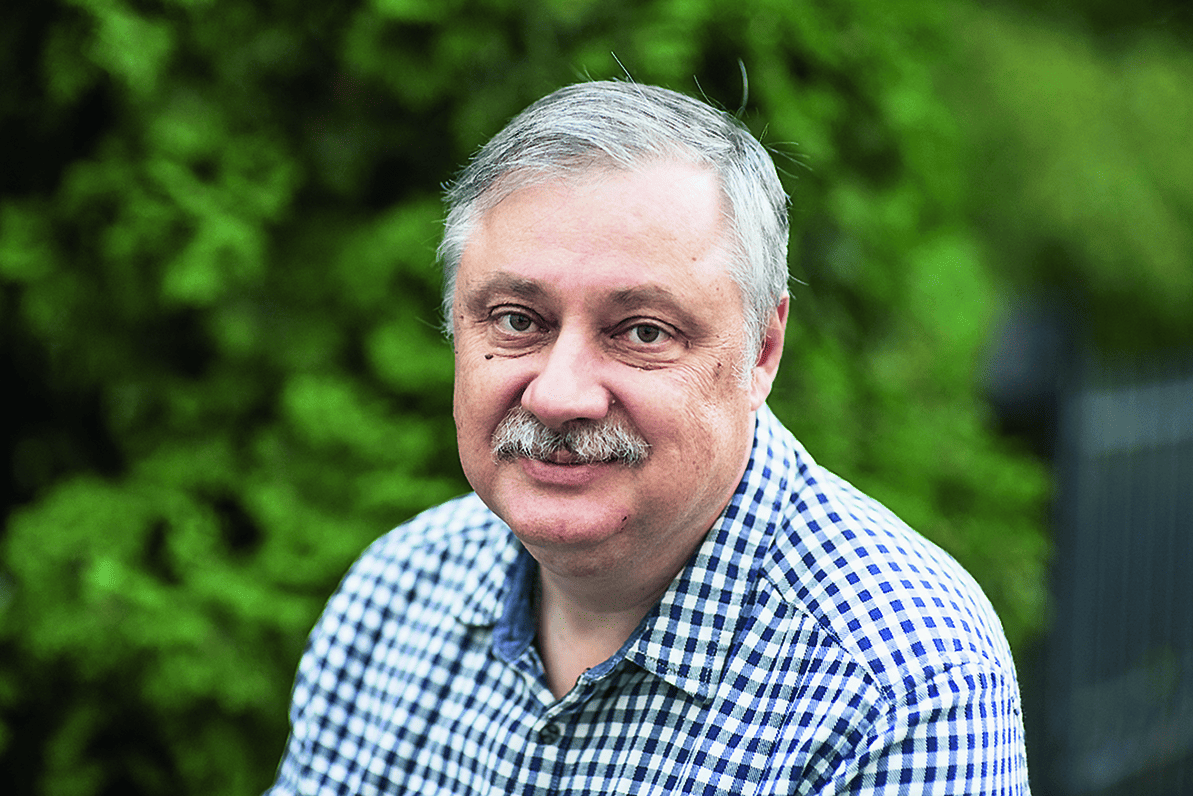
Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики»
Долгие годы образованный слой Российской империи боролся за права других, но в начале XX века произошла важная трансформация: наиболее активная часть тогдашней общественности окончательно отбросила путы «народничества», которые обязывали ее «страдать за народ» и «страдать вместе с народом», и рванула в политику.
Это был водораздел эпох. Постепенно уходили в прошлое чеховские доктора, инженеры, учителя – люди, у которых была Профессия, Дело с большой буквы. На поверхность общественной жизни выносило тех, у кого за душой были лишь амбиции, обида, зависть и множество, как правило, неосуществимых идей. Они рассчитывали найти себя в политике, самоуверенно полагая, что «не боги горшки обжигают». Мне иногда кажется, что печальное угасание Антона Павловича Чехова в том числе было связано с тем, что он – наблюдательный и рефлексирующий человек – увидел, куда движется его «целевая аудитория». Увидел и не смог с этим жить…
Это время выявило целый ряд социальных закономерностей, не потерявших актуальности и сегодня.
Закономерность первая: политическая программа этого слоя, как правило, сужена до общественной и институциональной деструкции. Главным интересом российского политизированного интеллигента в 1905 году было «осчастливить» Россию неким подобием западной демократии – желательно одним росчерком пера: либо вырвав у власти уступки (так появился Манифест 17 октября), либо вырвав с корнем саму власть. Чтобы все было как в Англии и немедленно – с завтрашнего дня. Что делать потом с этими демократическими рычагами, представители прогрессивной общественности не знали, ибо в принципе не имели внятной позитивной программы внутреннего развития.
Закономерность вторая: политизированная интеллигенция глубоко безответственна по отношению к тем процессам, которые она инициирует. В полной мере это проявилось в событиях 1916–1917 годов, но уже в 1905-м российский «креативный класс» явил эту свою особенность во всей красе. Раскачав лодку, интеллигенция под бурчание о «взбесившемся хаме» стала попросту расползаться, оставив «поле боя» радикалам, которые показали себя в «товарном» количестве именно в 1905 году.
Закономерность третья – прямо по Ленину: «страшно далеки они от народа». Одной из причин «креативной» безответственности была отстраненность от той части общества, которая была занята созданием не «смыслов», а материальных ценностей. И разночинцы-народники XIX столетия, и политизированная интеллигенция начала (и, кстати говоря, конца) XX века народа не знали. Но если народники «ходили в народ», силясь понять его и принять его ценности, то у интеллигенции незнание быстро превратилось в откровенное презрение к вечно отсталому «народу-богоносцу» и, в нынешней терминологии, «быдлу», отравляющему яркую и полную смыслов «креативную» жизнь.
Закономерность четвертая: политизированной общественности свойственна постоянная радикализация. Ей всегда было мало того, что она имела. Именно поэтому активисты-общественники так и не смогли найти равновесное положение в 1905 году, получив, в сущности, все или почти все политические свободы, о которых мечтали. Они не смогли остановиться даже к сентябрю 1917-го, когда на горизонте замаячили «революционные матросы Балтики». С этим обстоятельством, вероятно, связан феномен постоянного размывания в России «умеренной оппозиции». Лидеры, которые готовы к диалогу и компромиссам, быстро теряют авторитет и влияние в среде, где каждому важно бежать впереди паровоза, чтобы не оказаться в хвосте.
Наконец, пятая закономерность: наша политизированная интеллигенция живет «здесь и сейчас» и не помнит, что было вчера. И поэтому не понимает, что может быть завтра. Этот слой общества, несмотря на его традиционные громкие крики о необходимости прогресса, в реальности ни к движению, ни к развитию, ни даже к мало-мальским изменениям не приспособлен.
Дмитрий Евстафьев, кандидат политических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики»
. Расстрел рабочих у Зимнего дворца 9 января 1905 года. 1925.png)
.png)