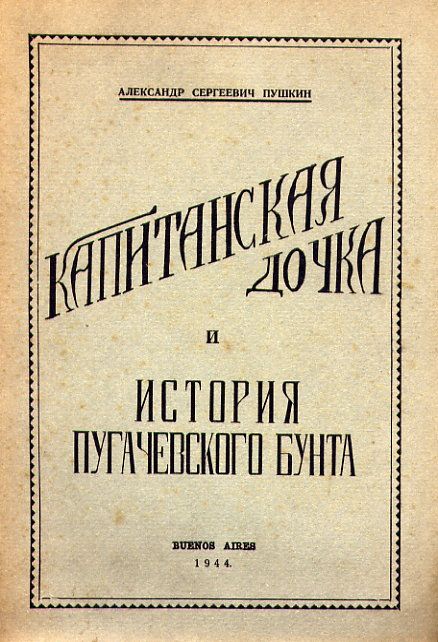Историк александр пушкин
28 Сентября 2015
Пушкин многократно обращался к историческим образам в поэзии. Вещий Олег, Пётр Великий, Мазепа... Но Пушкин занимался и историческими исследованиями. Насколько серьёзным было это направление в пушкинском творчестве?
Сегодня, когда речь заходит о каком-либо историографическом произведении, в первую очередь обращают внимание на уровень научной подготовки автора. Это естественно, поскольку со времён Пушкина история выделилась в отдельную научную дисциплину и выработала определённые подходы к изложению исторического материала, среди которых полнота и критический анализ источников играют решающую роль.
Когда Павел Попов в своей работе писал: «Все данные сводятся к тому, что дальше Голикова Пушкин в собрании материалов не пошел, во всяком случае, он систематически для своего труда вряд ли что еще изучал», формально исследователь двигался в правильном направлении, полагая, что историческое произведение необходимо изучать по законам жанра, к которому оно принадлежит, хотя, по существу, допускал методологическую ошибку. Во времена Пушкина ещё не выработался устойчивый критерий оценки исторического произведения. Он находился где-то между признанием нравоучительного смысла повествования, его занимательностью и установлением истины, которую с трудом можно было назвать научной, хотя Карамзин по-своему уже ставил вопрос о соотношении реальности и вымысла в изображении прошлого.
Утверждение из «Предисловия» к «Истории государства Российского», что «самая прекрасная выдуманная речь безобразит историю, посвященную не славе писателя, не удовольствию читателей и даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уже сама собою делается источником удовольствия и пользы», вроде бы даёт основание полагать, что историк всё же придерживался научных представлений в своей работе. Однако надо иметь в виду, что речь шла о допустимости использования фантастических представлений в исторической работе, о проблеме, которая вообще за гранью научного мышления. Илья Фейнберг, доказывая вполне справедливо историческую ценность Пушкина, на самом деле повторял ошибку Попова, пытаясь придать труду поэта не свойственное ему научное значение. В итоге работа Фейнберга при правильной постановке многих проблем оказалась столь же противоречивой, как и труд его оппонента.
Вопрос об исторической осведомлённости поэта не был продиктован ни особенностями историко-литературного развития пушкинской эпохи, без решения которого терялось верное представление «общего хода вещей», ни внутренним содержанием самой работы поэта. Суждение Франсуа-Адольфа Лёве-Веймара: «Взгляды Пушкина на основание Петербурга были совершенно новы и обнаруживали в нем скорее великого и глубокого историка, нежели поэта», отражало мнение западного человека с уже сложившимися научными представлениями. Для российского общества важный смысл имело то, что, по свидетельству Вяземского, «в Пушкине было верное понимание истории (...) Он не писал бы картин по мерке и объему рам, заранее изготовленных, как то часто делают новейшие историки». Неслучайно друг поэта и человек, хорошо ориентирующийся в общественных вкусах, характеризует «Историю Петра» как «труд многосложный, многообъемлющий, почти всеобъемлющий. Это — целый мир!». Того же мнения придерживался и Пётр Плетнёв, который полагал, что в пушкинской работе открывалась бы не только историческая, но и «художественная правда». Этим он подчёркивал иной, более важный, чем установление научной истины, смысл «Истории Петра», тесно связанный с проблемой пушкинского историзма.
Так сложилось, что в работах, посвящённых пушкинскому историзму, обычно ничего не говорится об «Истории Петра», и, наоборот, в исследованиях по «Истории Петра» нет упоминаний об историзме Пушкина. Это обстоятельство привело к серьёзным искажениям в становлении и развитии одной из основных методологических проблем изучения творчества поэта. Борис Томашевский в работе «Историзм Пушкина» установил, что «для Пушкина история является уже картиной поступательного движения человечества, определяемого борьбой социальных сил, протекающих в разных условиях для каждой страны».
Одну из причин, которая заставляла многих учёных искать противоречия Пушкина там, где их не было и не могло быть, верно определил Борис Энгельгардт в работе «Историзм Пушкина», написанной, кстати, задолго до аналогичных работ Бориса Томашевского и Натана Эйдельмана: «Исторические взгляды Пушкина изучались по преимуществу с социально-политической точки зрения (...) развитию всеобъемлющего исторического воззрения на мир и соответствующего исторического переживания жизни почти не уделялось внимания — все сводилось к оценке прогрессивного и реакционного элемента в исторических воззрениях поэта». Исследователь ближе других подошёл к пониманию пушкинского историзма, говоря о поэте, что «...он учится не только у Шекспира или Скотта, но и у древних русских хронистов, произведения которых были ему довольно хорошо знакомы». Однако та же методологическая ошибка — стремление соотнести исторические взгляды поэта с научными представлениями — привела Энгельгардта к выводу, которого иными средствами добивались его оппоненты: «...в самом поэте не выкристаллизовалось твердых и определенных убеждений. Смутные предчувствия, не совсем ясные идеи, которые скорее можно отнести к эмоциональным, чем к чисто-теоретическим переживаниям, могли лишь определить общее направление духовной эволюции...».
Высокая оценка, данная Пушкиным «Истории государства Российского», позволяет говорить о том, что в ней прежде всего следует искать ответы на многие вопросы, связанные с проблемой пушкинского историзма. Уже говорилось, что карамзинская работа по исполнению близка к литературному жанру.
Можно сказать, что «История государства Российского» была одновременно и художественной, и научной работой. Научной — потому что предъявляла определённые требования к источникам, художественной — поскольку основывалась на иррациональных методах освоения исторического материала. Без учёта критерия нравственной оценки карамзинский текст мог показаться чередой парадоксов и благоглупостей. Вместе с тем неправильно было бы смешивать художественный и научный подходы, представляя «Историю государства Российского» в форме их случайного гибрида. Жанр, в котором работал Николай Карамзин, вероятно, следует определить как действительную историю, близкую к житийной литературе. От художественной истории её отличает отсутствие вымысла, от научной — строгой аргументации. Карамзин писал: «Историк рассуждает только в объяснение дел, там, где мысли как бы дополняют описание (...), где ищем действий и характеров (...) Искусное повествование есть долг бытописателя, а хорошая отдельная мысль — дар». Таким образом, история представляется не законченной схемой, определяющей будущее той или иной общественной идеологии, а в виде незавершённого действия. Диктуется это вневременным характером нравственного закона. Историк прежде всего старается передать многоплановую картину эпохи, поскольку смысл происходящего уже определён Священным Писанием: «Не дозволяя себе никакого изобретения, я искал выражений в уме своем, а мыслей единственно в памятниках; искал духа и жизни в тлеющих хартиях; желал преданное нам веками соединить в систему... изображал не только бедствия и славу войны, но и все, что входит в состав гражданского бытия людей: успехи разума, искусства, обычаи, законы, промышленность (...) хотел представить и характер времени, и характер летописцев: ибо одно казалось мне нужным для другого».
Незадолго до смерти Пушкин опубликовал в «Современнике» статью о «Собрании сочинений Георгия Кониского...», в которой, отмечая заслуги священнослужителя-историка, изложил своё понимание исследовательской работы, во многом повторяющее мнение Карамзина: «Он сочетал поэтическую свежесть летописи с критикой, необходимой в истории».
Метод действительной истории предполагал полноту и достоверность исторического повествования, основанного на добросовестности исследователя, а критерий нравственной оценки позволял ориентироваться в многообразии характеров и суждений. Это означало, что, даже имея отрицательное отношение к историческому персонажу, исследователь избегал какого-либо отбора материалов, а излагал всю информацию, порой самую незначительную, и затем лишь сопровождал её частным комментарием или оставлял читателя наедине с текстом и собственным нравственным переживанием. Очевидно, что такой подход можно было толковать и как слабость авторской позиции, что, собственно, и происходило всякий раз, когда речь заходила о пушкинском историзме.
Мнение о том, что Пушкин не имел систематического взгляда на историю и Петра, довольно прочно укрепилось в пушкиноведении и стало общим местом. Вероятно, поэтому главная мысль Попова, что «Пушкин при составлении своих записей целиком следовал Голикову», ни у кого не вызвала вопросов. Ссылка на использование поэтом голиковского труда, который к тому времени являлся наиболее полным собранием исторических сведений о Петре, многим показалась неоспоримым свидетельством вторичности пушкинской «Истории Петра». При этом ни у кого не вызвала смущения фраза Попова: «Привнесения из других источников (Штелин, Туманский, Шафиров, Lemontey) столь ничтожны, что не ломают последовательности голиковского рассказа». Дело не в том, что список этот был неполным, — нет упоминаний о следственных материалах по делу царевича Алексея, записке Гордона и т.д., а в том, что происходила сознательная подмена понятий. Попов сам соглашается: «Это не конспект книг Голикова в точном смысле слова и не извлечения («выписки») из него. С трудом найдешь две-три фразы, дословно соответствующие текстам Голикова. Тетради Пушкина — свободное переложение Голикова». Казуистическое строение фразы очевидно: как можно «целиком следовать» и в то же время «свободно» перелагать? К тому же исследователь придаёт излишнее значение структурному совпадению голиковской и пушкинской работы.
В последнем академическом издании «История Петра» сопровождена своеобразным комментарием Томашевского: «Текст этот представляет собой подробный конспект предполагающегося сочинения». Употребление термина «конспект» крайне неудачно. Дело даже не в том, что у него есть несколько толкований, а в данном случае важна определённость. Сам термин в комментарии употреблён как раз в общепринятом значении, отрицающем самостоятельную роль конспектирующего, поскольку обращение Пушкина к «Деяниям» Ивана Голикова названо «...конспектированием 9-ти томного основного тогда труда по истории Петра». Получается довольно запутанная картина, согласно которой Пушкин конспектировал труд Голикова, который при этом превращался в сочинение самого поэта. Лабиринт!
(Продолжение следует)
Андрей Лисунов